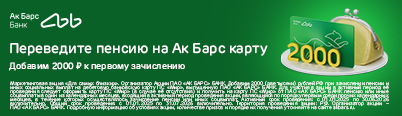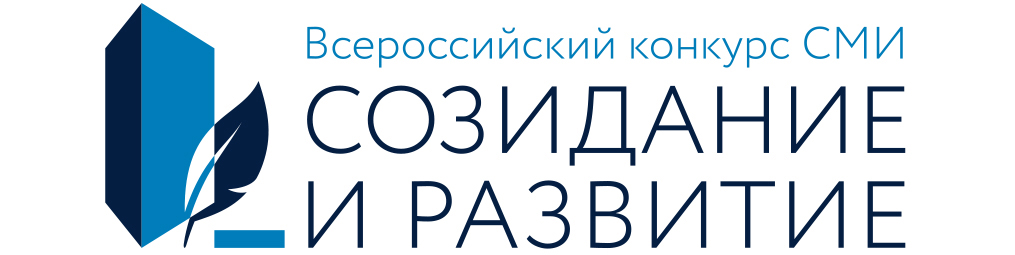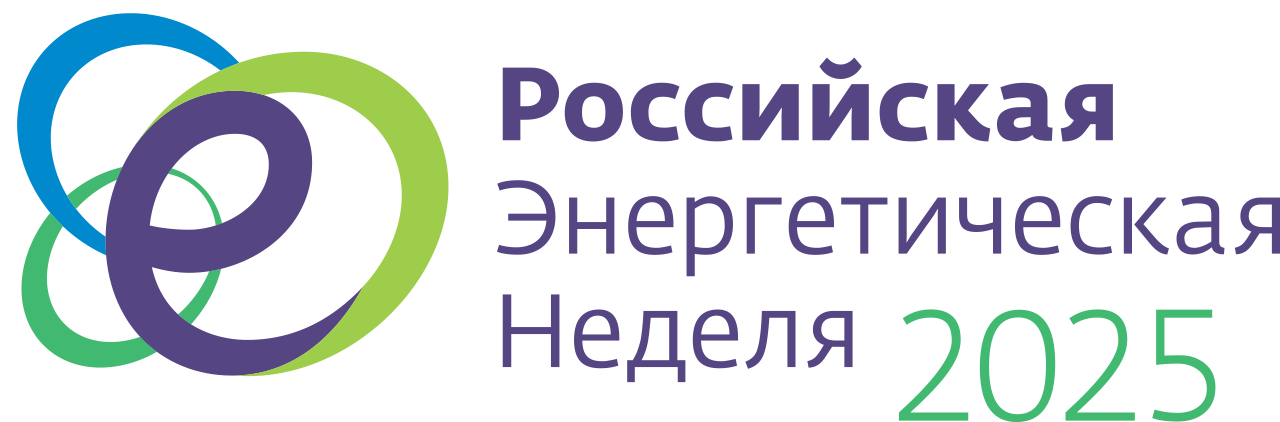Могут ли дома ремонтировать себя сами и почему окна теперь прямоугольные?
 В преддверии праздника Дня строителя в Минстрое России состоялась церемония награждения призеров восьмого ежегодного конкурса «Спроси строителя-2025». В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, а также члены Общественного совета при Минстрое России, представители профессионального и образовательного сообщества.
В преддверии праздника Дня строителя в Минстрое России состоялась церемония награждения призеров восьмого ежегодного конкурса «Спроси строителя-2025». В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, а также члены Общественного совета при Минстрое России, представители профессионального и образовательного сообщества.
С приветственными словами к участникам обратились председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик и ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое России, помощник министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Кузьменко.
Сергей Степашин напомнил, что ежегодный конкурс на лучший детский вопрос о строительстве был учрежден Общественным советом при Минстрое России и проводится уже 8 лет при поддержке Минстроя России. В этом году на рассмотрение жюри поступило 600 вопросов из разных регионов России.
Сергей Степашин отметил, что дети – участники конкурса глубоко погружены в строительную тему, поэтому задали очень интересные и содержательные вопросы.
Он напомнил, что строительство во все времена является одной из главных отраслей в нашей стране, и рассказал детям о той работе, которая проводится сейчас. В частности, о восстановлении городов и сел на освобожденных территориях, о переселении людей из аварийного жилья, о расширении строительства ИЖС, о программе по замене лифтов, а также о ключевых результатах проекта «Я – строитель будущего» и о работе Детского и Юношеского общественного совета. Сергей Степашин подчеркнул, что одним из самых острых вопросов развития строительной отрасли является нехватка кадров, которая сегодня достигает нескольких десятков тысяч специалистов, поэтому работа Детского и Юношеского общественных советов, а также проведение специальных конкурсов приобретают очень большое значение для привлечения будущих строителей в профессию.
Также Сергей Степашин рассказал детям о возможностях поступления в ведущие отраслевые вузы, о важности сознательного выбора профессии. Он подчеркнул, что строитель наряду с учителем, воином и врачом – это вечная профессия. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик в свою очередь поздравил ребят с победой в конкурсе и наступающим Днем строителя, а также отметил важность работы Детского общественного совета для профориентации школьников и повышения престижа строительных профессий среди молодежи. Замминистра подчеркнул, что профессия строителя очень многогранна, но главное, что результат труда всегда можно увидеть и поделиться им с близкими. Константин Михайлик порекомендовал ребятам поступать в строительные вузы и участвовать в студенческих строительных отрядах, чтобы полностью погрузиться в профессию.
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик в свою очередь поздравил ребят с победой в конкурсе и наступающим Днем строителя, а также отметил важность работы Детского общественного совета для профориентации школьников и повышения престижа строительных профессий среди молодежи. Замминистра подчеркнул, что профессия строителя очень многогранна, но главное, что результат труда всегда можно увидеть и поделиться им с близкими. Константин Михайлик порекомендовал ребятам поступать в строительные вузы и участвовать в студенческих строительных отрядах, чтобы полностью погрузиться в профессию.
«Минстрой России ведет большую работу, чтобы жизнь каждого гражданина России, и ваша тоже, стала комфортной, безопасной, чтобы в ваших городах появлялись красивые парки, общественные пространства, новые дома – теплые и уютные. Для этого реализуется большой проект «Инфраструктура для жизни», и каждый из вас, уверен, видит, как хорошеет наша страна», – сказал Константин Михайлик.
Помощник министра строительства и ЖКХ РФ, ответственный секретарь Общественного совета Светлана Кузьменко в свою очередь отметила, что в этом году на конкурс поступило гораздо больше вопросов, чем в предыдущем. В некоторых номинациях было очень сложно определить единственного победителя, поэтому по решению членов жюри учреждены дополнительные специальные призы. Светлана Кузьменко поблагодарила родителей участников конкурса, которые поддерживают у своих детей интерес к строительным профессиям, а также членов и партнеров Общественного совета при Минстрое России за поддержку конкурса и проекта «Я – строитель будущего!».
Осознанный интерес к отрасли
В этом году участники конкурса соревновались в трех номинациях и трех возрастных категориях (6–9 лет, 10–14 лет, 15–17 лет): самый оригинальный текстовый вопрос; лучший вопрос об истории строительства; самый оригинальный видеовопрос. На них ответили Сергей Степашин, Константин Михайлик, герой Социалистического труда, легендарный строитель Ефим Басин, члены Общественного совета Анвар Шамузафаров, Михаил Викторов, Александр Василевский, ректор НИУ МГШСУ Павел Акимов, ректор МГТУ МАСИ Светлана Забелина, член рабочей группы «Я – строитель будущего» Антон Метелкин, ведущие специалисты отрасли и представители бизнеса Владимир Ли, Константин Баль.
Так, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров ответил на вопрос победителя в номинации «Лучший вопрос об истории строительства (6–9 лет)» Михаила Смирнова из Крыма. Михаил задал вопрос об истории строительства единственного в России железнодорожного тоннеля под водой в Хабаровске.
Анвар Шамузафаров рассказал Михаилу и присутствующим детям о ходе и технологиях строительства тоннеля, который был построен в годы Великой Отечественной войны в условиях строжайшей секретности за 15 месяцев для обеспечения беспрерывного функционирования Транссибирской магистрали с использованием опыта метростроителей и с применением проходческих щитов. В память о строителях моста впоследствии была открыта памятная стела. Анвар Шамузафаров подчеркнул, что знания и опыт, приобретенные при строительстве этого объекта, в дальнейшем нашли практическое применение на других известных отечественных стройках, например при прокладке Северомуйского тоннеля на БАМе и Лефортовского тоннеля в Москве.
Ректор МГТУ-МАСИ Светлана Забелина ответила на видеовопрос 7-летней Ксении Хомяковой из Краснодара, который звучал так: «Люблю строить из кубиков и песка. Иду в школу, но там нет задачек про строительство. Как сделать так, чтобы их было больше?».
«Такие задачи были бы очень интересными, – согласилась с Ксенией Светлана Забелина. – Особенно для таких любознательных ребят, которые любят строительство. В некоторых учебниках такие задачи есть, но их действительно мало. Возможно, потому что авторы учебников не знают, что детям нравится стройка. Но твоя идея отличная! Можно предложить учителям или родителям придумывать свои задачки. Например: «Папа привез на стройку 100 кирпичей. Рабочие использовали 35. Сколько кирпичей осталось?». Я обязательно передам твое пожелание тем, кто составляет учебники. Ты молодец, что любишь и учебу, и строительство! Может быть, когда-нибудь ты станешь учителем, который пишет самые интересные в мире учебники, или отличным строителем».
Также ректор поздравила всех победителей с заслуженным успехом и вручила каждому уникальный подарок – экземпляр книги «Научный комиссариат по строительству СССР. 1941–1945». Передавая книгу, ректор обратилась к молодым специалистам с напутственными словами, подчеркнув важность их вклада в развитие строительной отрасли и необходимость непрерывного профессионального роста. Все члены жюри конкурса единогласно сошлись во мнении, что с каждым годом вопросы участников становятся все глубже и оригинальнее, а интерес ребят к отрасли – все осознаннее.

Научная работа в 10 лет
В числе победителей оказался юный талант – 10-летний учащийся начальной школы Мирон Потапов из Якутии. Внимание жюри привлек его необычный вопрос о вулкане: «Жил-был вулкан, но тут пришли строители и решили стройку на сваях замутить. Позвали они Экспертизу и спросили у нее, можно ли им эту стройку сделать у вулкана? А я хочу об этом спросить у строителей России». Мирон – яркий пример того, как детское увлечение может перерасти в серьезную научную работу, вдохновляя не только сверстников, но и взрослых специалистов. Несмотря на юный возраст, он уже завоевал признание в строительной сфере Якутии. Мирон является автором научной работы о специфике установки свай в условиях вечной мерзлоты и активно изучает вопросы строительства в сложных климатических условиях своего региона. Мальчик активно занимается в IT-клубе по направлению «Робототехника» и с 1-го класса изучает строительство многоквартирных жилых домов в условиях вечной мерзлоты. Когда пришло время для награждения победителей, школьник был полон эмоций. В своей речи он поблагодарил Общественный совет и Минстрой России за их внимание к интересам детей и поздравил строителей с их профессиональным праздником.
Оренбуржье представила Анна Зубарева –12-летняя школьница из областного центра. Девочка получила симпатии жюри и диплом в своей возрастной категории. Она спросила: почему оконные и дверные проемы раньше строили полукруглыми, а сейчас прямоугольными? От экспертов ребята узнали, что форма оконных и дверных проемов в архитектуре менялась на протяжении веков под влиянием технологий, материалов, эстетики и физики строительства. Полукруглые (арочные) проемы в древности предпочитали за прочность конструкции – арка лучше распределяет нагрузку сверху (стена давит не прямо вниз, а частично в стороны). Это позволяло делать более широкие проемы без риска обрушения. В древности не было прочных стальных балок, поэтому камень и кирпич укладывали дугой, чтобы избежать провалов. Римляне массово использовали арки (акведуки, Колизей), и их технология перешла в романскую, готическую и византийскую архитектуру. Кроме того, в храмах арка ассоциировалась с небом, сводом, божественной гармонией.
Теперь мы чаще видим прямоугольные проемы, поскольку появились новые материалы – стальные и железобетонные перемычки позволяют делать такие конструкции без риска обрушения. Прямоугольные формы легче в изготовлении – не нужна сложная кладка или подгонка камня. Стандартные прямоугольные окна и двери дешевле и удобнее в серийном выпуске. К тому же современная архитектура тяготеет к минимализму – прямым линиям и функциональности.
Котлован на Красной площади
Самый оригинальный текстовый вопрос задала 15-летняя Полина Гриднева из Екатеринбурга: «Уважаемые строители, почему мы чаще всего поднимаемся по лестнице против часовой стрелки? Какие архитектурные решения или инженерные хитрости вы бы применили, чтобы создать внутри дома своего рода «невидимые мосты» для детских игр, например, особые звуковые тоннели для шепота, или «тихие лабиринты» для передачи небольших посланий, где шум не распространялся бы на другие квартиры?». На этот вопрос ответил член рабочей группы инициативного проекта «Я – строитель будущего!» Общественного совета при Минстрое России Антон Метелкин:
«Во-первых, большинство из нас правши, а значит, правая нога почти всегда ведущая. Получается, когда мы идем против часовой, левая нога делает меньший шаг, и подниматься проще. Во-вторых, это привет из Средневековья. В замках такие лестницы помогали защитникам: сверху правше удобно было махать мечом, а нападающему снизу – неудобно. Этот прием так понравился строителям, что он остался с нами на века. В-третьих, правым глазом нам проще следить за ступенями и центром лестницы, а правая рука удобно ложится на перила. И, наконец, сложилась традиция. Архитекторы и строители любят проверенные решения. Если что-то работает сотни лет, зачем это менять?
А на второй вопрос про секретные ходы отвечу так. Начнем со звуковых тоннелей. Это могут быть тонкие пластиковые или металлические трубы диаметром 25–40 мм, проложенные внутри перегородок. Они выводятся на декоративные панели или встраиваются в мебель, а внутри имеют гладкое покрытие, чтобы звук не терялся. Можно добавить акустические зеркала, чтобы шепот попадал точно в нужную точку. Второе: тихие лабиринты для посланий. Внутри гипсокартонной или деревянной перегородки прокладывается канал с мягкой войлочной отделкой, около 6–8 см в диаметре, чтобы по нему можно было катать контейнеры вроде капсул от киндер-сюрприза. Маршрут можно сделать извилистым, с развилками и станциями приемки. Третье: говорящие стены. Это специальные акустические шахты внутри стен, обшитые фанерой или пластиком под углом, чтобы звук концентрировался в нужной точке. Снаружи это выглядит как обычная ниша или панель, но при шепоте в одном углу комнаты голос слышен только в другом заранее выбранном месте. И, наконец, воздушная почта. Система пластиковых труб диаметром около 75 мм с небольшим вакуумным или компрессорным блоком. Внутри легкие капсулы с мягкими уплотнителями. Такая почта может соединять разные комнаты и даже этажи, доставляя послания за считанные секунды. Все эти решения лучше закладывать еще на стадии строительства или капитального ремонта, чтобы они были безопасными, незаметными для соседей и радовали тех, кто знает, где искать вход».
Полина задала еще один оригинальный вопрос, на который попытались дать свой ответ строители: «Мы видим только поверхность Красной площади, а под ней, говорят, целые лабиринты истории, от древних фундаментов до тайных ходов, станций метро и драгоценных металлов. С какой самой большой проблемой пришлось бы столкнуться, если бы пришлось копать глубокий котлован на этом историческом месте?».
Если бы сегодня решили копать глубокий котлован на Красной площади, проблемы встали бы в очередь, как к Мавзолею в 1924 году. Вот главные «слоны в посудной лавке»:
1. Археологический ад.
Что под нами: слой XVI–XVII вв. – фундаменты 120 лавок старого Гостиного Двора. Слой 1812 года – обгоревшие бревна и французские ядра. Слой 1930-х – бетонные плиты первой линии метро (считайте, саркофаг из железобетона).
Проблема: каждый ковш экскаватора – угроза артефакту. Придется копать вручную и смахивать почву с кисточками, как в Древнем Египте.
2. Метро-невидимка.
Сокровище под ногами: станция «Площадь Революции» (глубина 34 м) с ее бронзовыми псами, которых «на счастье» трут уже 80 лет. Секретные тоннели НКВД (если верить легендам).
Проблема: вибрации от стройки могут вызвать просадку колонн метро. Придется замораживать грунт, как при проходке под Невой.
3. Вода и история.
Подземные реки: Неглинка, заключенная в коллектор, любит прорываться в котлованы. В 2000-х она затопила стройку «Охотного Ряда».
Решение: строить кессоны (стальные коробки) и откачивать воду непрерывно – это дороже, чем золотая мозаика в Мавзолее.
4. Политическая мина.
Святое место: любой экскаватор здесь – потенциальный «осквернитель». Достаточно вспомнить, как в 1990-х хотели построить подземный ТЦ у Кремля – проект был закрыт после скандала.
Бюрократия: согласования с ЮНЕСКО, Минкультом и ФСО займут больше времени, чем само строительство.
5. Технологический ребус.
Как копать? Тоннелепроходческие щиты не подходят – они слишком грубые. Роботы-археологи еще не изобретены. Остается метод «стена в грунте» (заливка бетонных «лезвий» перед выемкой земли), но это 2 года вместо 6 месяцев.
Реальный пример:
В 2019 году при реконструкции Лобного места нашли кирпичный водоотвод XVI века. Работы остановили на полгода – каждый камень снимали под присмотром археологов.
Что в итоге? Такой котлован стал бы самой дорогой стройкой века: сроки 5–7 лет вместо двух.
Бюджет: высокий.
Нервы: подрядчик поседел бы раньше, чем дошел до слоя 1380 года.
Вывод: Красная площадь – это «слоеный пирог», где каждый пласт – музей. Лучшее решение – не копать, а сканировать томографами (как делают с пирамидами).
P.S. Если бы Иван Грозный ознакомился с современными технологиями, он бы точно сказал: «Здесь не то что котлован – иголку воткнуть страшно!».
Откуда взялся плинтус
13-летний Всеволод Зотов из Иваново отметил в своем видеовопросе, что в строительстве много терминов, пришедших из глубокой древности. Они описывают проверенные веками технологии (например, «ендова» – оптимальная форма для стока воды). Многие пришли к нам из церковного и крепостного строительства. Интересно, что слово «стена» в древнерусском означало не только сооружение, но и «преграду» (отсюда «стенка на стенку» – старинная забава).
Вот другие интересные примеры:
1. «Плинтус» (лат. Plinthus – кирпич). От греческого «плинтос» (прямоугольный блок), через латынь. Значение: планка между полом и стеной.
2. «Фундамент» (лат. Fundamentum – основание). От латинского fundare (закладывать основу).
3. «Сруб» (др.-рус. «рубити» – обтесывать). От древнерусского способа строительства – рубки бревен топором.
4. «Косоур» (тюрк. Qosar – лук, дуга). Из тюркских языков, означало изогнутую опору.
Значение: наклонная балка лестницы, на которую крепят ступени.
5. «Порог» (др.-рус. «порогъ» – преграда). Связано с древними оборонительными сооружениями (например в крепостях).
6. «Мауэрлат» (нем. Mauer – стена + Latte – рейка). Немецкий термин, но сама технология использовалась еще в Византии. Значение: опорный брус для стропил.
7. «Стяжка» (ст.-слав. «стягъ» – связь). От слова «стягивать» (соединять).
8. «Гурт» (польск. Gurt – обод). Польский термин, но применялся еще в средневековой каменной кладке. Значение: ребро кирпича или камня.
9. «Закомара» (др.-рус. «комарь» – свод). От древнерусских полукруглых завершений стен в храмах.
10. «Лемех» (др.-рус. «лемьхъ» – лопата). Деревянная чешуя для куполов церквей (напоминает форму лопаты).
11. «Цоколь» (итал. Zoccolo – башмак на подошве). Итальянское слово, но аналогичные конструкции были в античной архитектуре.
Всеволода интересовало, почему эти слова сохранились, но по сути он ответил на вопрос сам: язык – живой организм, в нем органично сосуществуют и «коренные» слова, и заимствования.
Плюсы и минусы самана
Воспитанник приемной семьи из города Туапсе Анатолий Петухов тоже стал победителем конкурса – он задал вопрос про строительный материал, который использовали во время Великой Отечественной войны из-за дефицита стройматериалов:
«Его изготавливали прямо из земли, выкопанной под котлован будущего здания. Он обладает высокой прочностью и хорошей теплоизоляцией, экологически чистый и позволял экономить на отоплении. Одно важное условие – его надо очень хорошо гидроизолировать. Что это за материал?» – поинтересовался Анатолий. Эксперты сошлись во мнении, что здесь имеется в виду саман (или землебит) – один из самых древних и доступных строительных материалов, который действительно широко использовался в СССР во время Великой Отечественной войны из-за дефицита цемента, кирпича и древесины. Это смесь глины, песка, соломы (или навоза) и воды, которую утрамбовывали в опалубку или формовали в блоки. Рецепт военного времени был такой: грунт из котлована просеивали, смешивали с соломой для армирования и сушили на солнце. Почему его применяли в войну? Во-первых, это дешево – материал буквально «под ногами». Во-вторых, высокая скорость строительства – саман не требовал обжига (в отличие от кирпича). В-третьих, саманные стены сохраняли тепло лучше бетона. Наконец, материал очень прочный – при правильной технологии выдерживал нагрузки в 2–3 этажа.
В Сталинграде и других разрушенных городах саманные дома строили для расселения эвакуированных. Материал использовался даже для заводских цехов – например, на Урале. Главный его недостаток – саман боится воды: без гидроизоляции (обмазка известью, глиняная штукатурка) размокает за 2–3 года. В мирное время саман считался «бедным» материалом, но сегодня он переживает ренессанс в экостроительстве – из него строят «зеленые» дома в Европе и США. Современный аналог самана – глинобетон (с добавлением цемента для прочности).
Как строят дома в Кузбассе
Одним из победителей конкурса стал 9-летний Александр Баландин из Кемерова. «Я знаю, что под городами нашей Кемеровской области есть шахты, которые проложены глубоко под землей. Некоторые из них уже давно не работают. Я подумал: ведь если шахта старая, земля может провалиться? А на поверхности стоят дома, школы. Как строители проверяют, можно ли строить здание на месте, где раньше была шахта? Что делают, чтобы дом потом не провалился?», – задал свой вопрос Александр.
Эксперты отрасли пояснили, что дома строят только там, где точно проверили землю и укрепили ее. Дома на шахтах можно сравнить с муравейником: если под ним выкопать тоннель и потом засыпать его песком, муравейник останется стоять. Так же и с шахтами – их «запечатывают», чтобы дома наверху были в безопасности. В Кузбассе под землей расположено много старых шахт, и если их просто так оставить, земля действительно может просесть.
Но строители и ученые придумали, как все сделать безопасно. Сначала проверяют, есть ли под землей пустоты: бурят скважины и смотрят, нет ли под ними пустых пространств; используют радары и специальные приборы, которые «просвечивают» землю как рентген; изучают старые карты шахт, чтобы точно знать, где проходили тоннели. Если шахта опасна, ее укрепляют: заполняют пустоты бетоном, песком или специальной пеной, чтобы земля не проваливалась; иногда под землю забивают крепкие сваи – как подпорки, чтобы поверхность не проседала.
Строят дом на особо прочном фундаменте. Если шахта глубокая и уже укреплена, дом ставят на очень толстую бетонную плиту (как подошву у ботинка), которая распределяет вес и не дает дому просесть. Иногда делают гибкий фундамент, который немного «играет», если земля чуть-чуть двигается.
А как же быть с уже построенными домами? За ними тоже следят – если земля начинает проседать, инженеры могут усилить фундамент или даже переселить людей. В некоторых городах Кузбасса (например, в Ленинске-Кузнецком) раньше часто были провалы, но теперь перед строительством всегда проверяют шахты и укрепляют их.
Бетон, который «лечит» себя сам
«Я живу на Урале, поэтому изучение темы строительства начала с поиска интересных фактов, связанных с нашим регионом. Так, я узнала, что ученые Южно-Уральского государственного университета предложили способ самовосстановления бетона при помощи биоминеральной добавки. И мне стало интересно, можно ли построить такой дом, который будет ремонтировать себя сам в случае необходимости?» – спрашивает 7-летняя Василиса лет из Екатеринбурга.
Хотя для многих это и звучит как фантастика, но ученые действительно работают над такими технологиями. Самовосстанавливающийся бетон – это не будущее, а уже настоящее. Ученые из ЮУрГУ и других стран придумали добавлять в бетон особые бактерии или минералы. Вот как это происходит: в бетон добавляют «спящие» бактерии (например, Bacillus subtilis) или капсулы с «заживляющим» составом. Когда в бетоне появляется трещина, внутрь попадает воздух и вода. Бактерии просыпаются и начинают производить известняк (как ракушки в море!), который заполняет трещину. Трещина затягивается – бетон становится снова прочным. Это как царапина на руке: наш организм сам ее заживляет, а бетон с бактериями делает то же самое. Можно ли построить полностью «саморемонтирующийся» дом? Пока что технология работает в основном для бетона, а дом состоит еще из металла, дерева, стекла и других материалов. Но кое-что уже возможно: из самовосстанавливающегося бетона могут быть стены и фундамент. Также ученые тестируют материалы, которые «затягивают» мелкие повреждения кровли под солнцем (например, это могут быть полимеры с памятью формы). В ЮУрГУ экспериментируют с добавлением в бетон биоминеральных композиций на основе уральских материалов. Это делает бетон еще прочнее и «живучее».
Что будет дальше? Ученые мечтают создать полностью «живые» дома, где стены залечивают трещины, трубы сами заращивают дыры, краска на фасаде обновляется под дождем. Пока это звучит как сказка, но первые шаги уже сделаны – например, в Нидерландах есть велосипедная дорожка из самовосстанавливающегося бетона. В Японии придумали бетон с грибными спорами – когда в трещину попадает вода, грибы растут и «склеивают» его.
Вывод: дом, который чинит себя полностью, пока построить нельзя, но отдельные его части – уже можно! Может быть, спустя некоторое время такие дома станут обычным делом – ведь наука не стоит на месте.
Русский архитектурный код
Вопрос 17-летнего Александра Лоткова из Санкт-Петербурга звучал так: «Исторически русские города имели уникальный архитектурный код (кремли, храмы, деревянное зодчество). В советский и постсоветский период массовая застройка часто этому коду противоречила. Какие принципы из нашего богатого архитектурного наследия Минстрой считает ключевыми для формирования современной, но узнаваемой российской идентичности в новом жилье и инфраструктуре, особенно в программах реновации?».
Современная градостроительная политика России действительно стремится к возрождению национального архитектурного кода, адаптируя его к вызовам XXI века. Современная российская архитектура не слепо копирует прошлое, а переводит его язык в цифровую эпоху. Как сказал один архитектор: «Мы строим не избы, но дух избы должен жить в бетоне». Вот ключевые принципы, которые профессиональное сообщество выделяет для формирования узнаваемой идентичности:
1. Иерархия силуэтов и «небесная линия».
Наследие: традиционные кремли и храмы задавали ритм городскому силуэту.
Современность: в реновациях предлагают ярусность застройки – высотные доминанты (общественные здания) + среднеэтажные кварталы и низкие «подчиненные» объемы. Пинежский принцип (по мотивам северного зодчества) – ступенчатые кровли и мансарды даже в многоэтажках (пример: ЖК «Перовский» в Москве).
2. Двор как замкнутый микрокосм.
Наследие: русские усадьбы и монастыри с защищенными внутренними пространствами.
Современность: «дворы без машин» с лавочками и качелями в стиле теремов (как в реновации Хамовников). Атриумные пространства с зимними садами – аналог древнерусских «клетей с переходцами».
3. Материальная память.
Наследие: дерево, кирпич, белый камень. Современность: фасады с терракотовыми панелями (имитация псковского известняка). Деревянные акценты в отделке (балконы, перголы) с огнезащитными пропитками. Ребристые фасады – отсылка к «бриллиантовому русту» кремлевских стен.
4. Цветовая гамма.
Наследие: палитра русских городов (охристые, бирюзовые, белоснежные тона). Современность: регламенты по колористике в исторических зонах (например, в Казани новые дома красят в цвет местного песчаника). Яркие акценты – как в узорочье XVII века, но в металлокомпозитах (ЖК «Красный Октябрь» в Нижнем Новгороде).
5. Сакральная геометрия.
Наследие: крестово-купольная система храмов. Современность: общественные центры с атриумами-«колодцами» (аналог светового барабана в церквях). Кварталы-«слободы» с четким делением на зоны, как в древнем Суздале.
6. «Умная» эклектика.
Наследие: синтез византийских, барокко и народных мотивов. Современность: фасады с керамическим 3D-орнаментом (цифровые вариации на тему прялок). Стеклянные шатры над атриумами – реинкарнация бочечных крыш.
7. Антропологический масштаб.
Наследие: человекоориентированные пропорции (высота окон, ширина улиц). Современность: «теплые» первые этажи с мастерскими и коворкингами вместо глухих витрин. Улицы-«ручьи» с изгибами (как в Пскове), а не прямые «транспортные коридоры». Примеры внедрения: Москва (район Люблино): кирпичные фасады с «поясами», как в ярославских храмах + современные энергоэффективные окна. Казань (ЖК «Солнечный город»): деревянные галереи-«гульбища» на стальном каркасе. Великий Новгород (район «Псковский»): школа с фасадом из известняка и меди – отсылка к местным фрескам.
Загадка про Аллею славы
Часть поступивших видеовопросов на конкурс была подготовлена с помощью интернет-сервиса по созданию тематических анимационных роликов «ЖЭКА-МУЛЬТ», разработанного Фондом развития территорий и являющегося частью проекта Общественного совета при Минстрое России «Я – строитель будущего!». В этой номинации обладателем специального приза от Фонда развития территорий стала 6-летняя Василиса Лисицына из Москвы, которая попросила разгадать ее загадку про благоустройство одного из российских городов, в котором она побывала вместе с родителями:
«Раньше на этом месте в городе стояли грузовики, а еще раньше были пустыри и мусорные кучи. Сегодня же там красивый бульвар, который даже получил международную награду. От меня еще две подсказки: я очень люблю белые цветы, и мы с этим красивым местом ровесники», – говорит персонаж из мультфильма Василисы Лисицыной.
Представители профессионального сообщества ответили, что это бульвар «Белые цветы», названный так в честь одноименного романа классика татарской литературы Абдурахмана Абсалямова, именем которого названа одна из улиц города. Бульвар в Казани был открыт в 2018 году, а в мае 2021 года это общественное пространство первым в России было награждено профессиональной премией EDRA Great Places Awards..
Эволюция городов
Приз зрительских симпатий завоевал шестилетний Александр Кузьменко из Москвы, который спросил у экспертов отрасли: «Почему в старых городах улицы такие узкие и кривые, а сейчас ровные и широкие?». Ему пояснили, что разница между старыми узкими улочками и современными широкими проспектами – это результат эволюции городов под влиянием технологий, транспорта и градостроительных идеологий. Узкие улицы – атмосферные, но неудобные для машин. Широкие проспекты – функциональные, но обезличенные. Компромиссом могут стать современные города, сочетающие широкие магистрали с «живыми» пешеходными зонами. Также эксперты рассказали о главных причинах:
Транспортная революция. Раньше города строились для пешеходов и гужевого транспорта (телеги, кареты). Узкие улицы были нормой – они защищали от ветра, солнца и врагов. Сейчас автомобили, автобусы и трамваи требуют широких дорог, парковок и развязок. Например, в Риме ширина улицы Via dei Fori Imperiali (построена при Муссолини) – 30 м, а средневековой Via della Gatta – всего 3 м.
Военная стратегия и гигиена. Раньше кривые улицы замедляли врага во время атак, а плотная застройка помогала обороняться. Сейчас после эпидемий (например, чумы) города стали «распрямлять» для проветривания и доступа солнца. Барон Осман в Париже специально прорубил широкие бульвары, чтобы избежать новых восстаний и улучшить санитарию. Очевиден контраст: узкие улицы Феса (Марокко) и прямые проспекты Нью-Йорка.
Технологии строительства. Раньше дома росли стихийно, без общего плана. Улицы повторяли тропы, рельеф или старые крепостные стены (как в Таллине). А сейчас современные города проектируют «под линейку» с помощью геодезии и компьютерных моделей. Яркий тому пример – Санкт-Петербург, построенный по замыслу Петра I с прямыми проспектами, и органичный лабиринт Великого Новгорода.
Экономика и земля. Раньше земля в центре стоила дорого – дома «лепились» друг к другу, оставляя минимум пространства для улиц. Сейчас муниципалитеты резервируют территории под дороги заранее, а недвижимость проектируется с учетом парковок и инфраструктуры. Вот некоторые цифры: в Венеции ширина некоторых улиц – 1,5 м, а в дубайском Sheikh Zayed Road – 16 полос.
Идеология градостроительства. Улицы – это «общественная гостиная», где кипит жизнь. Урбанисты вроде Ле Корбюзье продвигали «город-машину» с четкими линиями и зонированием. Сейчас же модно возвращать «уютный хаос» – например, в новых кварталах Амстердама искусственно сужают дороги, чтобы замедлить транспорт.
Ольга Гришина