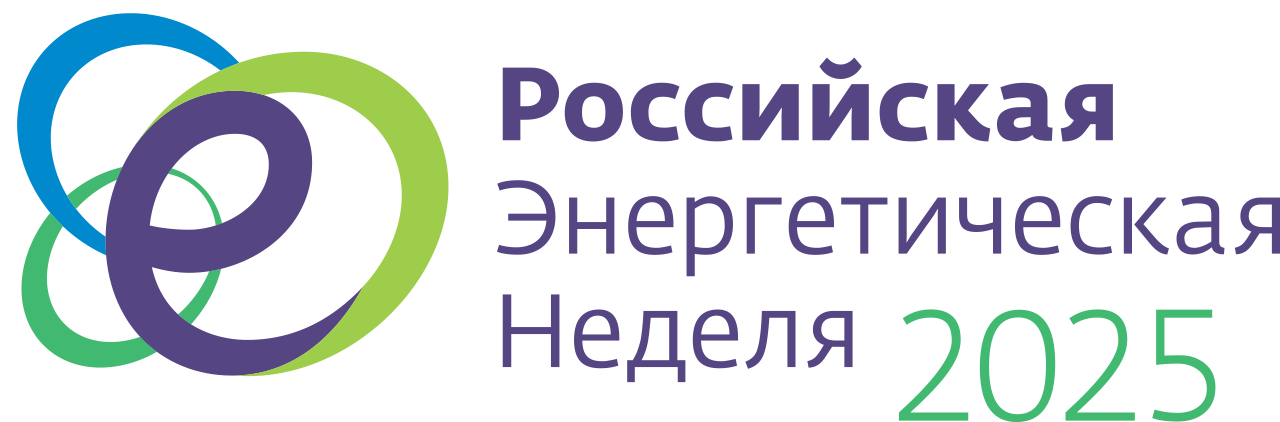Наталия Сиповская: «Искусство отвечает только на те вопросы, которые перед ним ставит человек»

В какую эпоху мы с вами живем в культурном смысле? Сравнимы ли современные творцы со своими великими предшественниками? В чем своеобразие русских художников сегодня? Что следует понимать под самими этими терминами – культура и искусство? Об этом и многом другом рассказы вает гостья нашей рубрики «Главная тема», доктор искусствоведения, директор ФГНИУ Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ Наталия Сиповская.
– Наталия Владимировна, почему вы решили связать свою жизнь с искусством?
– Мои родители, работавшие в военно-промышленном комплексе, довольно часто переезжали. Много времени мне довелось провести у своей двоюродной бабушки Олимпиады Сергеевны в Санкт-Петербурге. Ее семья была тесно связана с Эрмитажем, в котором мне довелось не только часто бывать, но и узнать многих сейчас уже легендарных его сотрудников. Меня там откровенно баловали. Так уж получилось, что самые счастливые моменты моего детства были связаны именно с искусством. Я готовилась поступать на мехмат МГУ, но узнав, что на историческом факультете есть кафедры по истории искусства, поступила туда.
– Как дальше складывалась ваша биография?
– После окончания отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ получила распределение в музей-усадьбу Кусково, которая с конца 1930-х годов приютила Государственный музей керамики. Диплом мой был по фарфору, и распределение вполне совпадало с его темой. Проработав там четыре года, я поступила в очную аспирантуру Института искусствознания. И с той поры работаю здесь, как недавно подсчитали, уже 36 лет.

«Фарфор для XVIII века – как пластмасса для 1960-х»
– То есть вашей искусствоведческой специальностью стал фарфор. Чем он вас так привлек?
– Не просто фарфор, а фарфор в XVIII веке. Для этого времени этот материал стал квинтэссенцией эстетики времени. Как пластмасса для 1960-х. Помните, тогда, в эпоху увлечения современным дизайном, из пластиковых масс норовили сделать все. Так же, как в XVIII веке из фарфора. И так же, как пластмасса, фарфор для Европы, в отличие от традиционной керамики, стал искусственным, изобретенным материалом. В Старом свете нет месторождений «фарфорового камня», как в Китае, на родине фарфора, поэтому состав плавня для фарфоровой массы пришлось действительно изобретать. Не случайно знатока, владевшего секретом фарфоровой массы, называли как алхимика – арканистом. Сейчас трудно представить масштабы увлечения фарфором в ту пору. Достаточно сказать, что правитель Саксонии Август Сильный отправил королю Пруссии Фридриху I полк из шестисот драгун в обмен на 152 фарфоровые вазы, причем страны на эту пору были в состоянии войны друг с другом. Так что заведение в 1708 году в Мейсене первой в Европе фарфоровой фабрики многие связывают со стараниями саксонских вельмож, желавших уберечь страну от полного разорения. Россия тоже не стояла в стороне. Невская порцелиновая мануфактура, учрежденная в 1744 году, была третьей европейской фабрикой по производству твердого фарфора. Не буду повторяться, иначе интервью закончится на этом вопросе (а книгу об этом я уже написала), и ограничусь лишь тем, что очень многие процессы культуры XVIII века можно понять через фарфор. Здесь и любовь столетия Просвещения к изобретательности, к изысканности и утонченности, и впервые проявившееся увлечение тем, что мы сейчас называем оформлением быта. Не украшением замков и дворцов, а именно обустройством житейского обихода в них.
«Культура – это очень широкое понятие»
– Как соотносятся между собой понятия «искусство» и «культура» – что из них первично, а что вторично?
– Культура – это очень широкое понятие, недаром сам термин восходит к изначальной форме оседлой человеческой деятельности – агрокультуре. Оно включает все, что связано с человеком, – от житейских устоев до производства и науки. Культура – это взращивание, наследие, наследование. Это совокупность образа жизни, традиций, ценностей и норм в определенной социальной группе на определенном этапе. Каждый раз, когда это понятие сужают до художественной культуры, мне становится не по себе. В античные времена мир по человеческому подобию делился на три составляющие: хиле (материя), псише/психея (душа) и пневма (дух). И поскольку человек есть животное социальное, каждой из этих сфер соответствовала обобщающая человеческий опыт сфера приложения: хиле – все, что связано с продуктивной и рациональной деятельностью (наука в том числе); пневма – религия и духовные практики, псише – искусство, обобщающее практики чувственного познания мира. Культура – она про все это. А искусство – всего лишь одна область деятельности, но связанная с самой сокровенной человеческой стороной – психологическим опытом, выраженным через творчество.
Конечно, культура и искусство – взаимосвязанные области. Но если искусствовед отвечает на вопрос «как?», то культуролог спрашивает: «зачем?». Искусство много уже, но глубже. Если культурология исследует вширь, то искусствоведение отвечает за гораздо более тонкие материи. Но при этом прочнее стоит на ногах. Искусствоведение невозможно без досконального знания факта – самого предмета и контекстов его создания. Культурология может себе позволить умозрительность, хотя, на мой взгляд, культурологические построения без знания «матчасти» часто оборачиваются полной катастрофой и иллюзией знаний.

«Мы наблюдаем, как дождь бьет по воде»
– Обозревая прошлые столетия, культурологи и искусство-
веды выделяют эпохи преобладания тех или иных стилей и направлений в формах человеческого самовыражения. В эпоху какого искусства живем мы?
– Мы давно живем в сложной, многополярной, мультикультурной эпохе. Это даже не постмодерн. Мир и понятие времени кардинальным образом изменились. Если раньше все процессы описывались Гегелевской спиралью – постоянное наращивание опыта по кольцеобразной восходящей, то сейчас мы наблюдаем нечто, похожее на то, как дождь бьет по воде. Многоцентричное, живое и «дребезжащее» креативное пространство, где все происходит здесь и сейчас.
– Наблюдались ли такие периоды в истории раньше?
– Ни одна эпоха не повторяет другую. Все они разнятся между собой, и суть различий сводится к ответам на три базисных вопроса: «Что есть жизнь, что есть смерть?», «Что есть время, что есть пространство?» и «Есть ли Бог, и что он есть?». Все остальное – это производные. Сейчас мы живем в эпоху, где эти вопросы перестали требовать однозначного ответа. Каждый из них изначально подразумевает множество интерпретаций, что отрицает существование целостной картины мира. В философии это называют деструкцией. И от этого рождается вибрирующая и интересная система, которая очень продуктивна для искусства. И в то же время – опасна, поскольку любая деятельность требует правил игры, очерченных границ.
– Но ведь часто можно услышать, что сейчас искусство переживает упадок…
– Теории об упадке современного искусства возникали множество раз – со времен Леонардо да Винчи, а быть может, и раньше. То есть эта мысль, прямо скажем, не нова. Просто человеку свойственно ощущать потребность в «золотом веке», который видится то в светлом завтра, то в невозвратном прошлом. Искусство разнообразно, обширно, и разом оно никак не может «упасть». Если фиксируется кризис академической картины, то значит, где-то выстрелит импрессионизм, если с архитектурой что-то не складывается, происходит прорыв в музыке…
В принципе говорить об упадке довольно смешно, поскольку искусство на каждом этапе своего развития отвечало и отвечает только на те вопросы, которые перед ним ставит человек. Я уже говорила, что искусство по сути есть обобщенный опыт чувственного познания мира, который важен не только для гармонической полноты, но и как реальный источник уникального знания, которое иначе людям просто не дается. На каждом этапе своего развития человечество по-своему обращается к этому знанию. А художники – это сенсоры, которые умеют эту наиживейшую необходимость уловить и интерпретировать в образах. Поэтому говорить о том, что искусство стало хуже, чем было когда-то, – неправильно. Просто вопросы ставятся разные, подчас непривычные и новые. Мастерство и представление о нем тоже меняется – что-то утрачивается безвозвратно, но в каких-то вещах оно всерьез прирастает. И современность с новыми реалиями, не говоря уже о новых технологических возможностях, – не исключение.

«В разное время свои приоритеты и правила»
– А разве не случалось упадка, когда, например, в Суздале сначала использовался более сложный способ вышивки?
– Любая потеря – есть приобретение. Утеряли в искусности и сложности смысла, но приобрели в экспрессии и разнообразии, расширился тематический спектр изображенного. Пришло много других мотивов и орнаментов, которые потом синтезировались в новые. Видите ли, искусство все время развивается, обновляется, модифицируется. Меняются приоритеты. Сказку «Свинопас» помните? Там все презирают искусственную птичку, потому что есть живой соловей, и всем очень не нравятся искусственные розы, потому что есть живая, которая еще и пахнет, и дышит. А столетием раньше, напротив, искусственную птичку и искусственную розу предпочли бы натуральным, поскольку больше ценили не естественность и жизненность, а искусность и креатив. В разное время свои приоритеты и правила. Когда-то искусство Вателя, устраивавшего грандиозные придворные праздники, ценилось выше искусства архитекторов тех дворцов, в которых он их устраивал. А через полтора века представление о настоящем искусстве свелось к образу картины в раме в зале музея. Сейчас наряду с картинами и скульптурами в зоне искусства вновь оказались по-современному поданные «действа»: перформанс, акционизм, инсталляция. И всему этому есть место. Один лишь критерий остается неизменным – художественного качества. Объяснить его очень трудно, но почувствовать (а ведь искусство – это сфера чувств) легко. Настоящее искусство не оставляет равнодушным, оно сделано так, чтобы тревожить, удивлять и одаривать новым опытом чувствования, заставляя наши чувства поработать всерьез.
А что касается потерь… Если бы мы шли только путем потерь, о котором говорят пессимисты, или прогресса, в который верят прогрессисты, человек менялся бы биологически. А мы как стали homo sapiens много тысячелетий назад, так ни одной извилины у нас не прибавилось, несмотря на цивилизационные успехи и объемы информационных потоков. Но и не убавилось, что радует.
– В век развития биоинженерии не откроются ли возможности для создания нового человека?
– Не ко мне вопрос. Для меня все люди – новые. Кстати, в век Просвещения тоже была идея создания через приращение знания нового человека: как фигурально – методом воспитания, так и реально – выращиванием искусственного гомункулуса. Конечно, многие предсказания писателей-фантастов в итоге сбываются: летательные аппараты, видеосвязь и множество прочих обычных ныне вещей. Но если вспомнить весь опыт футуристической литературы, посвященной будущим временам, то можно заметить, что практически все технологические предсказания оправдываются, но ни одно социальное – не сбывается. Человека как индивида это тоже касается. У антропологов по этому поводу есть бородатый вопрос-аргумент: «Кто гениальней: современный продвинутый IT-шник или изобретатель колеса?».
– Насколько тесно сегодняшнее искусство взаимодействует с современными технологиями, и есть ли в этом что-то интересное?
– Конечно, взаимодействуют. Причем двояко. С одной стороны, это очевидное расширение инструментария современных художников, которые не только активно используют новые дигитальные возможности, но и целиком реализуют свои произведения в виртуальной реальности. С другой стороны, это уже ставшие привычными «картины виртуальности», которые намеренно воспроизводятся и анализируются в традиционных техниках, типа масло на холсте или классическая фотография. То и другое одновременно можно увидеть, например, в ГЭС-2 на инсталляции Франциско и Платона Инфанте «Небесные артефакты». Как и раньше, концептуальные работы художников двух поколений этой семьи строятся как аналитические проекты. Но если говорить в целом о сегодняшнем дне, то современный художник, работающий с очень сложными технологически интересными формами, не нацелен изобретать. Он, скорее, импрессионист по своей сути. Ему больше важен момент впечатления, аллюзий, отсылок к прежнему опыту – как собственному чувственному, так и к художественному. Ведь искусство настолько внутри нас, что мы порой используем этот опыт, совершенно не отдавая себе в этом отчета. Художник же, как правило, отдает, и поэтому воспроизводит сидящие в нашей подкорки образы – скажем, «Вечный покой» Левитана или Колизей в новом виртуальном виде. Вроде ничего нового, но оптика меняется и появляются совершенно иные образы и ассоциации, которых в исходных произведениях и быть не могло. Создается та самая тонкая, подвижная ткань, которая аналогична состоянию современной культуры; у меня, как я сказала выше, она ассоциируется с поверхностью воды с множеством попавших туда капель, от каждой из которых расходятся круги.
– Можете привести еще примеры?
– Воплощением этой зыбкой иллюзорности для меня стал проект Александра Пономарева «Майя. Потерянный остров» 2000 года. По исполнению это монументальнейший проект: экспедиция из четырех кораблей Северного флота, сама акция на 69-м градусе северной широты в Кольском заливе, катера, специально оборудованные дымовыми пушками. По сути же – апофеоз иллюзорности (собственно «майя» в переводе с санскрита и значит иллюзия, иллюзорность). Остров исчезал в непроницаемом тумане, растворяясь на горизонте, а затем постепенно появлялся, меняя на глазах очертания и ракурсы. В итоге и в реальности, и в фотофиксациях проекта был создан впечатляющий образ размытости границ на границе мира – в полярных льдах.
«Русский стиль никогда не умирал»
– Русское современное искусство чем-то отличается от современного искусства других стран?
– Да, оно более провокативно. И тому есть генетические причины. Если оценивать русскую художественную среду, начиная с последней четверти XIX века, то главными признаками типично русского художественного поведения можно назвать настойчивое стремление к поискам смысла в искусстве и социальную инфантильность. Конечно, не без исключений. Мы знаем чудесные примеры самоорганизации художников (начиная с тех же передвижников). Но тем не менее идея о том, что настоящий художник должен быть голоден, нищ и не признан, в нашем сознании укоренена весьма прочно (вероятно, в истоках это как-то связано с культом юродства, имеющим в России древнюю историю). И в советское время эта линия все более усугублялась, поскольку – кроме государственных институций вроде Союза художников и восстановленной в 1949 году Академии художеств – путей социальной легитимизации у художников не было. В отличие, например, от западного художника, который имел возможность дисциплинированно встраиваться в какие-то частные институции (студии, школы, галереи). У нас же, если ты не в госструктуре, ты изгой. Вспомним Анатолия Зверева – настоящее явление в русском искусстве второй половины ХХ столетия. Несмотря на свидетельства его прижизненной мировой популярности, в России он оставался фигурой андеграунда. Причем художественная оппозиция советского времени была начисто лишена политического смысла. Ведь политика – это организованная деятельность. А здесь чистое художественное вольнодумие. Причем инспирированное первой из названных примет «русскости в искусстве» – поиском сокровенных смыслов и форм, способных их передать.
Обладая яркой индивидуальностью и имея подчас диаметрально противоположные взгляды на искусство, наши творцы сходны в одном – что высший смысл в творчестве нужно и должно обрести. Речь идет не только о художниках, но и о композиторах. В последнее время широкую известность приобрел проект «Musica sacra nova. Духовная музыка из бывшего СССР», организованный фондом Николая Каретникова. Его творчество известно практически всем по музыке к мультфильму «Каникулы Бонифация», но при этом он также создал много потрясающих произведений духовного характера. Как и многие советские композиторы 1960–1970-х годов.
– Можно ли ожидать в России зарождение нового стиля?
– Русский стиль никогда не умирал, если понимать этот термин широко. Существует русская школа живописи, знающая несколько традиций, в том числе и ставших мировыми художественными брендами – имею в виду иконопись и русский авангард. Существует русский стиль, интерпретирующий мотивы древнерусского искусства, существуют промыслы и традиционные ремесла. Наконец, существует живое творчество, которое своей национальной физиономии не теряет ни в наших широтах, ни тем более за рубежом – в «экспортируемом» варианте. Другое дело – единый художественный стиль. Но генезис такого универсального стиля, которыми были романтика, готика, барокко и классицизм, уже лет триста невозможен, поскольку в мире исчезла универсальность миропонимания.
«Художественной культуре надо обучать с детства»
– Какие существуют интерьерные тренды с точки зрения искусства, какие дома у нас должны быть?
– Я считаю, что любой человек способен организовать свое собственное пространство. Просто надо понимать, что это прежде всего пространство и что оно действительно ваше. Апеллировать надо к тому, что вам нравится, без оглядки на соседей. Но будь то квартира, частный дом или тем более многоэтажный комплекс, его нужно «обживать» еще при планировании. Была, например, недавно в квартире элитного комплекса. Во многих отношениях, вплоть до персонального лифта, это действительно жилье высокого класса. Но что же видит человек, войдя в просторный вестибюль квартиры? Двери в места «с удобствами». Причем в этих «местах» находится большое окно в пол. Понимаю, что кто-то в начале проектирования правильно счел, что от входа люди по классике должны идти на свет. Но затем кто-то решил, что именно в этом месте надо расположить стояки и фановые трубы, из-за чего перенос санузла стал невозможен.
Понимание пространства и пропорций много важнее разговора о стилях, декоративных приемах и дизайне. Все это преходяще. Но если дом организован в пропорциях не золотого сечения, а – извините – гроба, то никаким дизайном это не исправить. А так выстроены большинство загородных домов 1990-х, искалечивших Подмосковье хуже бомбежки. Готические башенки или колонны их совсем не спасают.
Наверное, было что-то разумное в практике типовых домов для отдельных поселков (а при Петре Великом даже для целых городов). Декор и метраж могли варьироваться по выбору, но основа все-таки была грамотной. Конечно, сейчас публика стала более «насмотренной» и привыкла советоваться с профессиональными архитекторами. Но все же без каких-то начальных знаний обойтись трудно. Раньше в школьной программе старших классов был предмет – мировая художественная культура (МХК). Вот этот самый предмет обязательно должен быть в школах, но начиная с младших классов – точно так же, как музыка.
Художественной культуре нужно обучать с детства. Конечно, очень мало найдется квалифицированных учителей. Однако при нынешних возможностях коммуникационных технологий можно широко транслировать их опыт. Хотя все равно некоторые вещи, безусловно, усваиваются только при непосредственном общении и в контакте с живыми произведениями. Но заниматься этим надо. Ведь понимание хотя бы азов искусства спасает не только от уродливых домиков, но и от эмоциональной глухоты, которую сейчас считают главной причиной юношеских депрессий.
– А ваш институт занимается образовательными программами?
– Начинаем, но для взрослых. Есть программы дополнительного образования, с этой осени запустили лекторий. Он сразу стал популярен, ведь лекции читают ведущие специалисты в своих областях. Но все же у нас научно-исследовательский институт, ведущий научный центр отечественной науки об искусстве. Обучение ведется только в аспирантуре, хотя многие сотрудники преподают на кафедрах университетов и ведущих творческих вузов.
Наша главная миссия – исследовательская работа. Причем охватывает она искусство всех стран мира от древности до современности. Но в центре внимания – отечественное искусство. Здесь формируется «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России», издается творческое наследие Всеволода Мейерхольда, полные академические собрания сочинений Чайковского и Мусоргского. Последние проекты особенно важны – это нотные издания, права на которые, в отличие от текстовых книг, фиксируются как патенты. В советское время об этом как-то подзабыли, и получилось, что, исполняя в Москве Первый концерт Чайковского, оркестр им. Чайковского, – отчисляли роялти за использование нотного материала в Германию. Поэтому подготовка этих изданий – не только важная исследовательская миссия, но и государственная.
И конечно, титульный проект института – «История русского искусства». Игорь Эммануилович Грабарь, который стал первым директором основанного в 1944 году института, свою первую «Историю русского искусства» начал издавать еще до революции. Но Первая мировая война оборвала этот проект. По странному парадоксу идея создания истории национального искусства вновь возникла в ходе Второй мировой. Вышло 13 томов в 16 книгах, которые стали фундаментом для всех исследовательских и образовательных программ по русскому искусству.
Однако новое тысячелетие нуждается в новой «Истории…»: накопились факты, поменялось видение, совершенствовалась наука. В нынешнем издании мы впервые сделали то, чего до нас не делал никто и никогда, – объединили пространственно-изобразительное и исполнительское искусство. То есть здесь не только архитектура, скульптура, живопись с графикой, но и музыка, театр и композиторское творчество. Поначалу этот проект стал неким вызовом, потом экспериментом, ведь у разных искусств своя периодизация, свои доминанты. А теперь мы воспринимаем его как возможность по-другому взглянуть и на отечественное искусство, и на искусствоведение как науку, и на наши методы. Собственно, для таких проектов и создавался институт.
Главное богатство исследовательских организаций – это не только классные ученые-профессионалы, но и возможность профессиональной дискуссии. О нашем институте можно рассказывать долго. Скажу лишь, что институт вошел в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России, в котором научных организаций только три (кроме нас, это Пушкинский дом и Пулковская обсерватория). Наш особняк – один из двух десятков частных домов Москвы, уцелевших в наполеоновском пожаре и сохранившихся до сих пор. Институт – единственное учреждение страны, которое является членом Международной ассоциации научно-исследовательских институтов истории искусств (RIHA), своего рода «масонской ложи» ведущих центров по изучению искусства в мире.
– Востребованы ли наши специалисты по искусствоведению в мире?
– Очень! Выпускники нашей аспирантуры без проблем получали международную степень PhD (лат. Philosophiæ Doctor, доктор философии – ученая степень, присуждаемая во многих странах мира. В России, где действует двухступенчатая система «кандидат наук / доктор наук», обычно приравнивается к степени кандидата наук. – Ред.) В сравнении с другими дисциплинами, по которым даже диплом за рубежом приходится подтверждать, это пример уникальный. Конечно, многое зависит от вуза и места присуждения степени. Но в целом отечественное искусствоведение обладает серьезным международным авторитетом. И это касается не только областей, связанных с русским искусством, по которому мы в силу места рождения обладаем большими знаниями и возможностями для его изучения. Речь идет о целых искусствоведческих специальностях. Показательный пример – музыковедение. Наша школа – авторитетнейшая в мире. Потому что, в отличие от других стран, у нас музыковедов обучают не в университетах, а в консерваториях на теоретико-композиторском отделении. Уже в силу этого они владеют своим материалом на другом профессиональном уровне. Это наш козырь.
– Как вы думаете, влияют ли гены на выбор профессии?
– Думаю, да. И подчас неожиданным образом. Например, мои далекие предки, которые в XVII веке прибыли в Россию, были мореходами. Удивительно, но художница, которая к 70-летнему юбилею делала мультфильм про наш институт, ничего не зная об этом факте, изобразила меня за штурвалом: будто я веду свой ковчег. Это про директорство. По поводу выбора специальности – здесь посерьезнее. В моей фамилии были не только технари, но и два совершенно замечательных гуманитария. Это известный историк и педагог Василий Дмитриевич, автор главного гимназического учебника по истории России, который до революции переиздавался четыре раза. Он был инициатором учреждения первых школ для глухонемых в империи и личным преподавателем истории у великой княгини Ксении Александровны и великого князя Михаила Александровича. А также его гениальный сын Василий Васильевич Сиповский, чьи труды по Карамзину и Пушкину, на которые так любил ссылаться Лотман, до сих пор остаются классикой отечественного литературоведения. Так что, наверное, гены – все же вещь важная.
«Прочную платформу можно найти в себе самом»
– Кто и когда вам дал самый ценный совет в жизни?
– Моя бабушка по отцу – Ирина Федоровна Сиповская. Она родилась в 1896 году. Если вспомнить отечественную историю XX века, то можно себе представить, сколько всего интересного с ней случилось в жизни. Человеком она была ярким и острым на язык. Так что совет был не один, и пользуюсь ими не только я. В нашем институте цитируемые мною фразы бабушки были названы «бабулизмами». Один из моих любимых: «Поскольку наша победа неизбежна, опять придется много поработать». Еще такой: «Если кто-то тебя ругает страстно, слушай его внимательно. Столько о себе он тебе никогда не расскажет». Или вот: «Если судьба дала по голове, а ты не извлекла из этого выгоду, значит, правильно дала». Это только три, но у меня чуть ли не на каждую ситуацию в жизни есть какой-нибудь «бабулизм», который помогает с ней справляться.
Сейчас очень много говорят о возвращении к корням как о «над-идее». Но в данном случае я считаю, что прав был поэт Михаил Матусовский, на слова которого когда-то Вениамин Баснер написал свою замечательную песню «С чего начинается Родина?». Родина начинается с картинки в букваре – с чего-то личного, из детства. Не должно возвращение к своим корням, к истокам декларироваться в назидательной форме. Прочную платформу можно найти только в себе самом – в моем случае в памяти о бабушке. Ты становишься не просто частью чего-то большего, но и все это большее принадлежит тебе. И тогда тебе не нужен совет, как устраивать свой дом, равно как и советы по другим, более значимым поводам. Смещается фокус восприятия – на ракурс сверху, и очень многие вопросы, которые кажутся сложными, становятся гораздо проще.
Беседовала Ольга Гришина