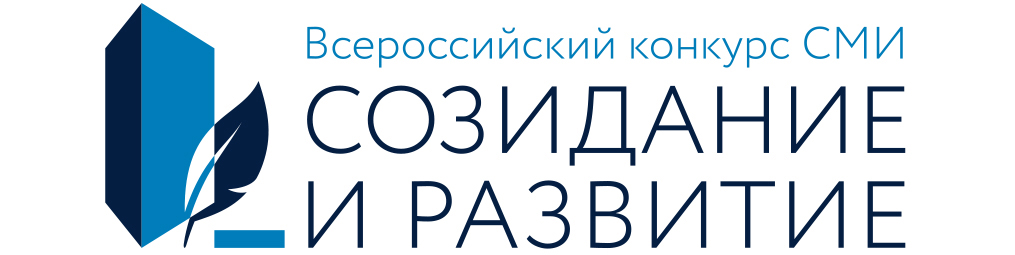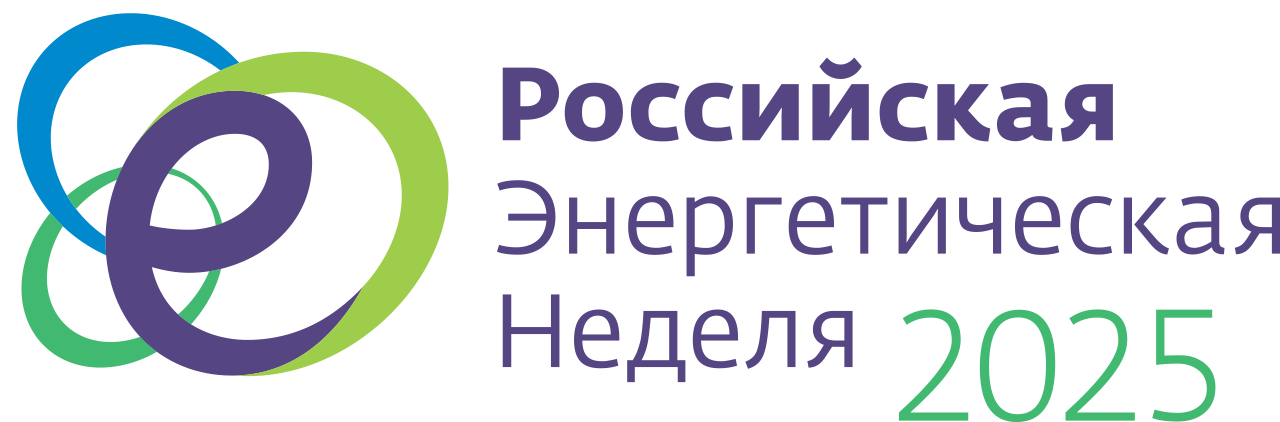Добрые соседи Переделкино
 От редакции. В учебном плане Университета территориального общественного самоуправления (ТОС) немало программ посвящено добрососедству. Частный пример добрососедства – очень яркий и выразительный – это история поселка писателей Переделкино, когда-то подмосковного, а с 1991 года полностью вошедшего в черту столицы. Директор университета ТОС Александр Лукичев – автор книг о Переделкино. По нашей просьбе он рассказал, какими соседями были великие писатели.
От редакции. В учебном плане Университета территориального общественного самоуправления (ТОС) немало программ посвящено добрососедству. Частный пример добрососедства – очень яркий и выразительный – это история поселка писателей Переделкино, когда-то подмосковного, а с 1991 года полностью вошедшего в черту столицы. Директор университета ТОС Александр Лукичев – автор книг о Переделкино. По нашей просьбе он рассказал, какими соседями были великие писатели.
«Живая струя появилась»
С самого своего основания в знаменитом писательском поселке развивалась соседская жизнь. Ведь известные литераторы там не только творили, но и ежедневно общались, тем самым проявляя свои личные качества. Например, Степан Щипачев и Корней Чуковский были соседями по поселку – они жили на улице Серафимовича. Чуковский, широкой публике известный в первую очередь как автор сказок в стихах и прозе, открыл в поселке библиотеку и стал устраивать литературные праздники для детей. Для этого он попросил у Щипачева часть его участка для детской площадки. Поэт выполнил просьбу и увеличил площадку на 10 м. Библиотека действует и в наши дни.
Когда вопрос о строительстве городка писателей в Переделкино еще только решался (а было это в первой половине 1930-х годов), у Максима Горького были большие опасения по поводу их будущих соседских взаимоотношений. Вот что он писал по этому поводу 28 февраля 1933 года председателю оргкомитета Союза писателей СССР Ивану Гронскому:
«Если две, три сотни работников литературы поселить на одной улице, то при наличии хорошо воспитанной прошлым способности обращать внимание прежде всего на пороки, недостатки, ошибки, глупость и пошлость ближних, – литераторы, может быть, отлично будут знать друг друга, но весьма сомневаюсь, чтоб литература выиграла от этого. В «городке писателей» неизбежно возникнет некий свой «быт», в нем, вероятно, немалое место займут факты столкновения честолюбий и самолюбий и прочее сугубо обывательское истребление времени на творчество пустяков. Разумеется, быстро возникнут группировки на почве чисто бытовых отношений, а в результате получим не «городок писателей», а деревню индивидуалистов, взаимно неприятных друг другу».
Получилось ровно наоборот. В спецсправке секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР о настроениях среди писателей от 9 января 1937 года говорится следующее:
«…приобретает особый интерес ряд сообщений, указывающих на то, что Переделкино … становится центром особой писательской общественности, пытающимся быть независимым от Союза советских писателей. Несколько дней тому назад на даче у Сельвинского (поэт, прозаик и драматург. – Авт.) собрались: Всеволод Иванов, Вера Инбер, Борис Пильняк, Борис Пастернак, – и он им прочел 4000 строк из своей поэмы «Челюскиниана». Чтение, рассказывает Сельвинский, вызвало большое волнение, серьезный творческий подъем и даже способствовало установлению дружеских отношений. Например, Вс. Иванов и Б. Пильняк были в ссоре и долгое время не разговаривали друг с другом, а после этого вечера заговорили. Намечается творческий контакт; чтения начинают входить в быт поселка, говорит Сельвинский. Реальное произведение всех взволновало, всколыхнуло творческие интересы, замерзшие было от окололитературных разговоров о критике, тактике союза и т.д. Живая струя появилась».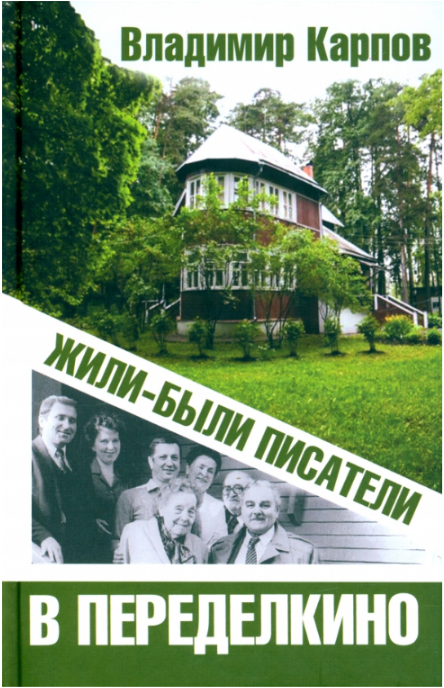 «Пастернак обрубает суки на елках»
«Пастернак обрубает суки на елках»
В письме к Константину Федину, который не остался на зиму и уехал в Ленинград, 26 ноября 1936 года житель Переделкино Борис Пильняк пишет: «Времени сейчас восемь часов … За окнами, среди елей и сосен, залепленных снегом, замечательная, сухая, безмолвная зима, от которой наш городок куда лучше сейчас, чем летом… Борис Пастернак – видел его сегодня через окошко – с лестницей обрубает суки на елках для топлива – живет, как ему подобает, – выражается так туманно, что его даже – и не в первый раз это с ним – спутали с критиками, как ты знаешь по «отчету» обо мне; читал он мне начало своего романа … – я выслушал и растерялся: совершенно новый писатель у нас объявляется, беллетрист … Что касается меня, – и у меня тоже пол-листа романа сочинено, пишу … Сижу дома, читаю и блаженствую. По вечерам стыкаемся – Борпаст, Погодины … разговариваем про процессы, про войну и про СССР, о литделах – меньше».
***
Да и в будущем, как показала 90-летняя история писательского городка, писатели вполне мирно сосуществовали. То есть знаменитого сюжета из стихотворения Дмитрия Кедрина «Кофейня», написанного им в 1936 году, – «У поэтов есть такой обычай – В круг сойдясь, оплевывать друг друга», не было. И в подтверждение этому несколько зарисовок о соседских отношениях, рассказанных самими переделкинцами.
В книге «Жили-были писатели в Переделкино» последнего руководителя Союза писателей СССР, Героя Советского Союза, писателя Владимира Карпова рассказано о дружеских соседских отношениях писателей-переделкинцев, с которыми связана целая эпоха советской и российской литературы. В «очень личных воспоминаниях» автор делится впечатлениями о дружеских соседских встречах с такими выдающимися писателями, как М. Шагинян, Б. Пастернак, Л. Леонов, К. Паустовский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава. И этому веришь. Книга вышла уже после смерти писателя и написана она была в свое время «не для публикации».
«У кого-то росла даже спаржа»
Из воспоминания внучки Валентина Катаева, нынешней жительницы Переделкино Тины Катаевой: «На нашей улице находится дача Чуковского – он был соседом через забор. Дальше была дача Сергея Смирнова, автора «Брестской крепости», а потом – дом Льва Кассиля. Часть писательских семей жила в Переделкино круглогодично, а часть приезжала только на лето. Мои дедушка и бабушка где-то с 1959 года жили там постоянно. В Переделкино всем давали очень большие участки, и в послевоенные годы, когда было голодно, было принято держать сторожа: в сторожку пускали жить людей, которые ничего не платили за аренду, но подметали двор и наводили какой-то порядок на участке.
Мой дедушка финансово помогал семье своего брата Евгения Петрова, автора «Двенадцати стульев», который погиб в войну, и у него остались два сына. И семье моей бабушки – у нее две сестры, соответственно, их дети и внуки тоже всегда находились у нас на даче летом. Чтобы всех прокормить, бабушка и дедушка купили корову, и наши сторожа ухаживали за ней, а молоко шло пополам. Потом сторожа завели кур и еще какую-то живность и иногда давали нам, скажем, яйца, но это была уже их собственность. В какой-то момент бабушка с дедушкой держали козу, и когда у нее родился козленок, коза некоторое время жила в крошечной комнатке прямо в доме. Животные тогда были у многих в поселке. Естественно, был огород, сад: сажали картошку, морковь, кабачки, соседи сажали все, что только можно: у кого-то росла даже спаржа. Люди друг другу передавали семена, навыки. У большинства людей были собаки и кошки. Собаки бегали сами по себе, знали всех гуляющих: или проходили мимо, задрав нос, или подбегали поздороваться. Даже собаки тут тоже ходили друг к другу в гости.
У нас была белая болонка Степка и рыжий пес Мишка, помесь сеттера неизвестно с кем, у нас он назывался «помесь бомбы с мотоциклом». Бабушка ходила в гости с собаками к своей подруге Елене Сергеевне Лаптевой, а те приходили с братом нашего Мишки к нам в гости, и иногда собаки делали подкоп под ворота и удирали друг к другу. Обязательным был пятичасовой чай – файвоклок. Бабушка родилась в Париже, во время Первой мировой войны ее семья бежала в Лондон и в двадцатые годы вернулась в Россию. Доставшаяся от матери тобольская традиция чаепитий с пирогами и английский файвоклок были у нее в крови. Поэтому в пять часов у нас делалась или творожная запеканка с изюмом, или пирожки из слоеного теста, но чаще всего бабушка делала настоящий английский пай с яблоками.
Калитка закрывалась на деревянную вертушку, и около этой вертушки была прорезь, то есть формально калитка закрыта, но те, кто хотят, могли просунуть руку и открыть. С Чуковским у нас был общий забор, и там тоже была калитка с такой вертушкой. Корней Иванович всегда мог прийти, как и мы к нему, но чаще всего этой калиткой пользовалась я и нагло сидела у него на голове. Прямо под кабинетом Корнея Ивановича была береза, где росли белые грибы, я их там всегда собирала. Он меня очень любил, и я знала, что, когда он работает, к нему не надо лезть наверх в кабинет, но если начинала собирать грибы, он, когда мог, всегда спускался. Без звонка к нам могли приходить Вознесенский, Евтушенко, Аксенов, Белла Ахмадулина».
Колокольчик для Окуджавы
Эти соседские отношения проявились и в непростые для писателей годы. В 1937 году репрессии пришли в писательский городок. Они превратили Переделкино в пространство, где каждый из жителей поселка стоял перед выбором: как реагировать на аресты и как общаться с теми, кто попал в опалу. Обрывать ли связи с родственниками арестованных? Так простое приветствие соседа через забор становилось политическим жестом. Многие писатели вспоминают, что одним из немногих, кто отважился на публичный протест, был будущий Нобелевский лауреат по литературе Борис Пастернак. Причем для поэта это было не разовое действие, а выверенная линия гражданской смелости – он последовательно отказывался подписывать людоедские групповые письма с одобрениями расстрела и не прекращал связей с опальными писателями. По воспоминаниям сына Бориса Пильняка, арестованного в 1937 году, Пастернак, «хотя два дома разделяла всего лишь калитка, шел через улицу, громко заявляя, что идет к соседу Пильняку, узнать, как там Кира Георгиевна, – демонстративно, так сказать, оповещая об этом окрестности».
***
Рассказ Татьяны Рыбаковой, супруги писателя Анатолия Рыбакова, про дружбу с соседкой по Переделкино Юлией Хрущевой (Юлия Хрущева родилась в 1940 году в Москве в семье сына Никиты Хрущева Леонида и Любови Сизых).
«Звонит Юля Хрущева – внучка Никиты Сергеевича. Сегодня ночью она будет встречать поезд из Ленинграда. Новиков, ее друг, завлит одного из ленинградских театров, привезет ей рукопись и письмо от Товстоногова. «Ждите, – говорит, – меня около часу ночи». Юля была незаменимым помощником в нашем деле. Работала она в то время завлитом в Вахтанговском театре. Все письма актеров и режиссеров прошли через ее руки: Роберта Стуруа, Михаила Ульянова, Юрия Яковлева, Аркадия Райкина, того же Георгия Товстоногова. В час ночи стук в дверь. Вот оно, это письмо от Товстоногова. Вскрываем конверт. «Появление этого романа станет великим событием нашей жизни!» Толя целует ее – «Молодец!» Юля до сих пор говорит: «Самые счастливые годы в моей жизни были связаны с борьбой за издание «Детей Арбата».
***
Белла Ахмадулина и Булат Окуджава были близкими друзьями и соседями по даче в Переделкино. Окуджава познакомился с Ахмадулиной еще задолго до того, как они стали соседями по поселку. Вот что он писал о Белле Ахмадулиной:
«С Беллой мы познакомились в конце 1956 года, она была еще совсем девочкой, студенткой. Из всех московских литераторов Белла мне особенно по-человечески близка, воспринимаю ее как друга, как сестру».
Белла Ахмадулина и Булат Окуджава посвящали друг другу стихи. Например, Ахмадулина написала «Песенку для Булата», а он посвятил ей шутливое стихотворение. Также Ахмадулина подарила Окуджаве колокольчик, который стал первым в коллекции поэта. К подарку она приложила записку: «Когда барин захочет призвать своего слугу, вы позвоните, и я к вам прибегу».
«Чуковский в гости жалует ко мне»
В 2010 году Евтушенко на своем участке в Переделкино построил Музей-галерею, который открылся ко дню рождения поэта. На первом этаже были выставлены фотографии, сделанные самим Евтушенко, и картины, подаренные ему художниками. Среди них работы Пабло Пикассо, Фернана Леже, Марка Шагала, Михаила Шемякина и многих других. На втором этаже воссоздан интерьер кабинета Евтушенко с рабочим столом, личными вещами, книгами. Это стало большим подарком для соседей поэта. Евтушенко передал Музей-галерею государству.
Так вышло, что живу я в Переделкино.
Когда пишу, в окне перед собой
я вижу в черно-белых прядях дерева
сосулек гребень темно-голубой.
И наполняет душу горней ясностью,
когда вокруг промозгло и темно,
но все-таки не дремлет свет у Асмуса
и прогибает изнутри окно.
И сразу мне становится уверенней,
когда слышны у дома моего
походка суховатая Каверина
и палка суковатая его.
Я слышу, как перо скрипит у Слуцкого.
Я вижу, как подходит он к окну,
в метельном свисте этой ночи слушая
войну, как будто радиоволну.
Как грузчик на ночной авральной выгрузке,
Катаев надорвался под собой,
но на столе из Мандельштама выписки –
его колодец поздний, но святой.
Жизнь – за спиной. Иллюзии повержены,
но ремесла инстинкт необъясним,
и Смелякова мучает поэзия
и, как сиделка, мучается с ним.
И можно ли с усталостью мириться мне,
когда, старейший юноша в стране,
на мотоцикле вежливой милиции
Чуковский в гости жалует ко мне.
Он сам снимает меховой нагрудничек,
предупреждая: «Только без вина…» –
и что-то удивительно накручивает
про Зоргенфрея, Блока, Кузмина…
Е. Евтушенко
1968 г.
Безголовая лягушка на даче Кассиля
Вспоминает Татьяна Вирта – дочка четырехкратного лауреата Сталинской премии Николая Вирты.
«С Кассилями мы жили бок о бок – нас разделял только общий забор из редкого штакетника. На нашем участке между гаражом, сторожкой и колодцем была вытоптанная площадка, сюда со всех соседних дворов стекались мои друзья, приводили с собой малышню, а часто и собак. Затевались разные игры, собаки с радостным лаем кидались в общую свалку, и так было изо дня в день. Окна кабинета моего отца выходили в противоположную сторону, в сад, а вот окна Льва Абрамовича смотрели прямо на тот самый плацдарм – излюбленное место наших сборов. Моя бабушка, женщина совестливая, ужасно переживала, что детский шум мешает Кассилю работать, но он ее всякий раз утешал: мол-де не беспокойтесь, Татьяна Никаноровна, во-первых, это дети наши, и куда же нам от них деваться, а потом я вижу – это замечательные дети, прекрасно развиваются, оттого так и вопят – просто из них энтузиазм рвется наружу. Кассили были теми самыми соседями, с которыми невозможно было поссориться ни по какому поводу или даже иметь какие-нибудь трения. Если собаки лаяли – значит их раздразнили, если дети орали – значит им было весело, если у нас во дворе кто-то слишком усердно сигналил – значит мой папа торопил маму ехать в город.
К счастью, в другом углу нашего участка был один объект, обладавший для нас невероятной притягательной силой. Это была громадных размеров кадушка с запасной водой – фауна и флора ее были поистине удивительно разнообразны – лягушата, мальки, головастики так и сновали в зарослях водяных лиан, мхов и лишайников разнообразной расцветки и размеров. В этой кадушке мы полоскались до посинения рук, малышей приходилось подсаживать, чтобы они могли разглядеть все фантастическое содержимое этого бесценного аквариума, а если повезет, то и поймать какого-нибудь незадачливого головастика, конечно, с выпуском его обратно в водоем.
А для Володи Кассиля наша знаменитая кадушка была подлинной лабораторией, поскольку она безотказно поставляла ему подопытных лягушек. Ну а что, скажите на милость, делать юному натуралисту, если ему на роду написано препарировать лягушек? Однажды они с его другом Колей Кавериным, сыном писателя Вениамина Каверина, производили радикальные опыты с лягушками на даче у Коли, и один подопытный экземпляр – живая лягушка, предварительно лишенная головы с помощью острого скальпеля, удрала со стола, где производилась данная вивисекция, и запрыгала по коридору к выходу. А в это время по коридору проходила жена В. Каверина, Лидия Николаевна, и, увидев подопытную безголовую лягушку, чуть было не потеряла сознание от ужаса. После этого инцидента юные натуралисты были изгнаны с дачи Кавериных и переместились на дачу к Кассилям. Там они обосновались на чердаке, который стал лабораторией этих будущих корифеев медицинской науки – известных профессоров, а в случае с Колей – академика РАМН».
***
А это воспоминания будущей писательницы Дарьи Донцовой:
«Мой отец, Аркадий Васильев, был писателем (самая его известная книга – «В час дня, Ваше превосходительство»), отсюда писательская тусовка, дача в Переделкино. Часто приходили Лев Кассиль, Вениамин Каверин, отец дружил с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским. Нашими соседями были Катаевы и Чуковские, с их детьми мы ставили спектакли, выпускали газеты и писали книги».
Александр Лукичев, директор Университета ТОС
ФОТО: Фотобанк Лори