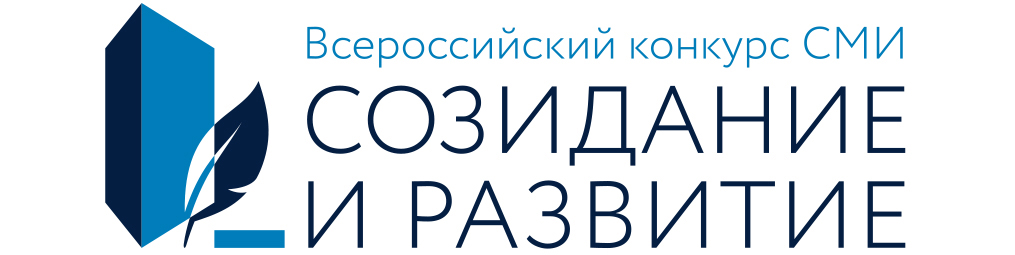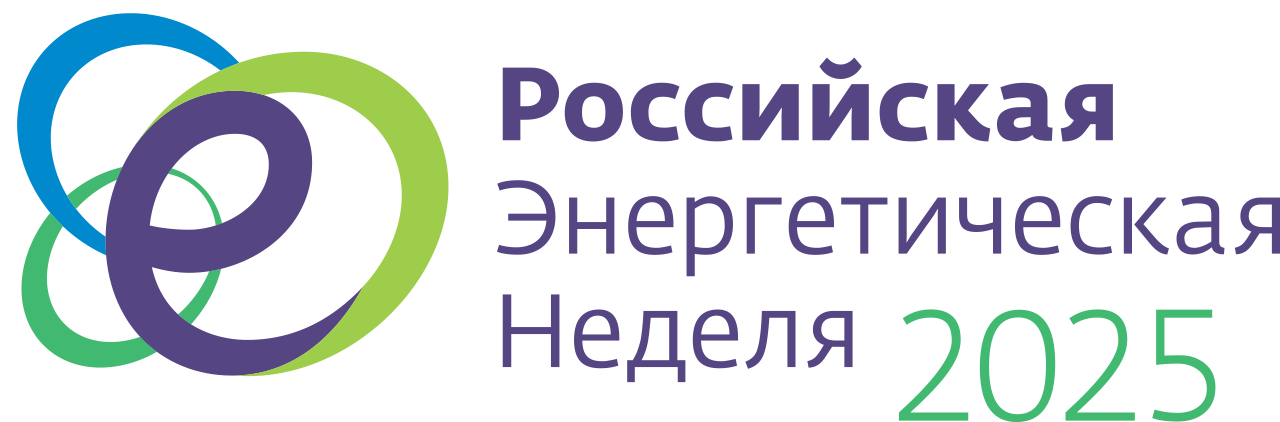Дмитрий Васильченко: «Основой системы расселения в России должны быть небольшие города»
 – Дмитрий Викторович, с чего начался ваш путь в профессию и почему выбрали именно эту сферу деятельности?
– Дмитрий Викторович, с чего начался ваш путь в профессию и почему выбрали именно эту сферу деятельности?
– Я окончил Московский архитектурный институт во второй половине 80-х годов, тогда среди профессорско-преподавательского состава были настоящие классики отечественной архитектуры. Только что ты читал учебник по специализированной дисциплине, а спустя некоторое время его автор проходит по коридору вуза, заходит в аудиторию и начинает читать лекции на нашем курсе. Я имел возможность соприкоснуться с корифеями и слышать их не через посредников, а напрямую – это было ценно и важно. Факультет градостроительства давал хорошую профессиональную школу, а профессура вела заинтересованных студентов на протяжении всех лет обучения. Этим обеспечивалась преемственность школы и идей архитектурной мысли.
Мой отец Виктор Анатольевич Васильченко был известным ученым в области советского градостроительства, работал в профильном научно-исследовательском институте, представлял нашу страну в Международном союзе архитекторов при ЮНЕСКО, поэтому интерес и любовь к профессии складывались у меня с детства. Меня интересовало именно градостроительство как таковое – теория и практика комплексного развития городов. То есть путь в профессию был осознанным выбором, а годы обучения в МАРХИ были незабываемы с точки зрения процесса вхождения в профессию.

«Важно знакомить людей с механизмом обратной связи»
– Градостроитель и урбанист – это разные названия одной и той же профессии?
– За рубежом урбанисты являются, скорее, социологами – они занимаются выявлением, систематизацией и обобщением демографических тенденций в жизни городов, работой транспорта и логистических связей, комфортностью среды. Это своего рода инженеры городских пространств. В нашем же понимании урбанист – это градостроитель. Но зачем использовать новомодное слово, если есть давно устоявшаяся в отечественном профессиональном сообществе и научной среде профессия – архитектор-градостроитель?
– Могут ли обычные жители влиять на принятие решений в области развития городской среды? Как наладить вертикальные связи между ними и властями города в этом контексте?
– Сложный и дискуссионный вопрос. С одной стороны, утверждение и реализация генпланов развития городов – это профессиональная задача специалистов, которые знают и понимают специфику и возможности всех элементов большой системы. Нельзя бесконечно обсуждать непрофессиональные мнения о вопросах, требующих специальных знаний. С другой стороны, жители представляют все слои и категории населения, они имеют право и должны участвовать в определении парадигмы развития собственного города. В этом проявляется подлинная народная демократия, выстраивается конструктивный диалог между неравнодушными жителями и городскими властями. А мы, профессиональное сообщество, должны подсказывать, разъяснять, корректировать и реализовывать согласованные на всех уровнях проекты.
Тут необходимо найти золотую середину. Предусмотренные законодательством публичные слушания – это механизм, с помощью которого можно высказаться и повлиять на значимые процессы. Беда в том, что специалисты часто не могут донести свою идею до широкой общественности. Многие из жителей готовы вносить предложения и участвовать в обсуждениях. Но часто они высказывают свое мнение непрофессиональным языком. Конечно, это не повод отказывать им в возможности влиять на процесс принятия решений. Мы должны зафиксировать мнение, придать ему более профессиональную форму и представить на суд общественности. У нас не очень хорошо налажен механизм донесения информации, часто не все осведомлены об уже имеющихся возможностях, которые вполне реально использовать. Давайте информировать, разъяснять и знакомить людей с механизмами обратной связи в области обсуждения планов развития городов – особенно это касается вопросов комплексного благоустройства.
– Как вы относитесь к ультрасовременным постмодернистским проектам в области архитектуры?
– Приведу пример из области музыки – есть композиторы, чьей атональной и дисгармоничной музыкой восхищаются профессионалы и узкий круг любителей. Архитектурный ультрамодернизм оригинален и интересен как единичное явление, но в качестве массовой застройки он неприменим. Архитектурные и градостроительные объекты не могут быть «вещью в себе», они образуют городскую среду и рассчитаны не на абстрактные образы, а на конкретное применение для людей. Эксклюзивное самовыражение не должно навязываться и превалировать над вкусами большинства. Есть области, где должны действовать профессионалы – при согласовании с мнением общества, конечно.
«Идеи надо оценивать комплексно»
– Есть ли в наше время перспективы для создания новых городов или следует развивать уже существующие?
– Идеи основания новых городов в современных условиях надо оценивать комплексно и с точки зрения целесообразности предлагаемых проектов. Существует такое понятие – схема территориального планирования страны. Есть разведанные, но еще неразработанные месторождения различных полезных ископаемых – рано или поздно рядом с ними возникнут поселения для обеспечения района добычи. Какие-то из них обязательно станут городами, потому что этого потребуют масштабы будущего освоения Сибири. Другое дело, что их развитие следует начинать с учетом уже имеющегося у нас положительного и отрицательного опыта. В советское время были созданы моногорода, которые успешно развивались, пока было производство или добыча. А когда градообразующее предприятие останавливалось, город превращался в экономически и демографически депрессивную зону с многими проблемами и рисками.
– Как решить проблемы моногородов с одним градообразующим предприятием?
– Следует создавать новые функции, дополнительные места приложения труда с диверсификацией и иными направлениями деятельности. В таких вопросах государству не надо бояться вмешиваться в жизнь городов – напротив, в этом его прямая положительная роль как регулятора и направляющей силы.
В свое время у нас была служебная поездка в Швецию от Москомархитектуры. У них за полярным кругом был городок на 15 тыс. жителей вокруг одного предприятия, которое в определенный момент прекратило функционировать – не выдержало конкуренции и разорилось. То же самое, что и во многих наших моногородах. Переселить весь город невозможно, это вызовет гуманитарную катастрофу – люди всю жизнь там прожили, там похоронены их родные и так далее. Тогда на государственном уровне было принято решение все диспетчерские службы такси Стокгольма перевести в этот городок. Интернет, телеметрию и компьютеры для работы диспетчеров установили в этом населенном пункте, обеспечив его население новой работой. Казалось бы, неразрешимая катастрофическая ситуация была решена.
Конечно, у нас страна гораздо больше, но при волевом участии государства можно и нужно принимать смелые решения. Если под какой-то проект не идет инвестор – дайте ему налоговые льготы на пять ближайших лет, и он согласится вкладывать деньги именно сюда. Экономически выгодные условия обязательно притянут сторонние средства, и с точки зрения дальней перспективы это будет выгодным для всех игроков.

«Расползание агломераций необходимо остановить»
– Как вы относитесь к проблеме укрупнения городов и постепенной миграции населения в мегаполисы?
– Я считаю, что по-настоящему здоровое становление государства и общества возможно только при условии поддержки и развития малых городов в регионах, а фокусировка в основном на нескольких крупных агломерациях приводит к болезненному дисбалансу в распределении населения и экономической активности. Агломерации буквально высасывают экономически активное население из малых городов, и те постепенно умирают во всех смыслах этого слова. С этим процессом связано перетекание квалифицированных специалистов всех профессий в большие города, а также маятниковая миграция с односторонней нагрузкой на транспорт. Это когда утром нагруженные пассажирами поезда двигаются из области в мегаполис, обратно идут пустые составы, а вечером ситуация меняется на противоположную.
А все потому, что в малых городах нет достаточного количества рабочих мест и значительная часть активного населения вынуждена по несколько часов в день тратить на дорогу к областному центру и обратно.
Мне кажется, что основой системы расселения в России должны быть небольшие города. На протяжении последних десятилетий жители сельскохозяйственных территорий переселялись в малые города, потом агломерации начали втягивать в себя население этих областных и районных центров, а в итоге развиваются лишь крупнейшие мегаполисы, и это настоящая катастрофа с точки зрения перспективного развития. А ведь исторически Россия всегда была страной малых городов, многие из которых отличались своими производствами и совсем не считались захолустьем.
Расползание агломераций необходимо остановить, иначе они вберут в себя всю страну. Мы как градостроители предостерегаем от этого, а решение видим в создании региональных центров экономического, демографического и культурного притяжения. Люди не уедут из своих городков, если в них будет перспектива для жизни и развития. Малые города – это периферия агломераций, и туда надо переносить трудовые акценты из мегаполисов, рассредотачивая миграционные процессы внутри страны.
«Инвесторов надо ограничивать, иначе облик городов будет нарушен»
– В современном мегаполисе строения разных столетий соседствуют друг с другом, сложилась стилистическая эклектика городской среды. Хорошо ли это, с вашей точки зрения?
– Москва как столичный город по объективным причинам не может избежать стилистической какофонии в архитектуре. Но посмотрите, как гармонично, хоть и архитектурно однообразно выстроен, например, район Строгино – это положительный пример комплексной застройки территории. В течение нескольких лет в эпоху развитого социализма был возведен район, все дома которого относятся к нескольким типовым сериям – и за счет этого единообразия нет ощущения стилистической безвкусицы, которая, к сожалению, иногда наблюдается в иных местах. В Строгино соблюдены значительные санитарные расстояния между жилыми строениями, там огромные внутренние дворы со школами и детскими садами, а взаимное расположение домов рассчитано таким образом, что соседи не смотрят в окна друг другу.
Но то была эпоха без коммерческого интереса застройщиков – теперь экономическая выгода превалирует над эстетикой и комфортными социальными нормами. С точки зрения визуальной соразмерности ритм городской застройки должен чередовать в себе здания различной этажности. Сейчас же мы наблюдаем повсеместное возведение расположенных вплотную друг к другу жилых башен повышенной высотности. Это делается из желания получить максимальное количество квадратных метров на единицу земельной площади – столица превращается в свайное поле. И это инициатива коммерческих инвесторов, которые заказывают архитекторам проекты максимально утилитарных и однообразных многоквартирных домов. Инвестиционное давление на органы власти и проектировщиков превалирует над здравым смыслом и архитектурной эстетикой. Считаю, что инвесторов надо ограничивать на законодательном уровне, иначе архитектурный облик городов будет непоправимо и окончательно нарушен.
– Почему Москва была расширена не путем кругового присоединения близлежащих городов, а лишь в одном юго-западном направлении?
– Традиционная для Москвы радиально-кольцевая схема подразумевает развитие по основным вылетным магистралям. С градостроительной точки зрения однонаправленное асимметричное расширение территории столицы вызывает много вопросов, ответы на которые лежат в области экономики и финансовых интересов. Это было волевое решение, которое не очень согласуется с градостроительной теорией и наработанной практикой. Новые территории обеспечиваются двумя крупными транспортными магистралями, нагрузка на которые многократно возрастет по мере увеличения населения, а коммуникационный трафик с течением времени будет двигаться в направлении коллапса.
«Генплан должен быть перспективным во многих смыслах»
– Если градостроители занимаются развитием больших и малых городов, то кто отвечает за развитие сельских поселений?
– Тоже градостроители, ведь правильнее говорить о развитии поселений различного уровня. Любой город тесно связан с собственными пригородами, а те, в свою очередь, – с сельской местностью. Любая деревня административно и логистически входит в зону влияния какого-то города – они связаны демографически, экономически и даже культурно. Любые сельские поселения тоже требуют генерального плана развития, пусть не такого подробного и многослойного, как большой город, но все же. Они тоже должны быть полноценными поселениями, но маленькими по масштабу.
– Как соотносятся между собой три ипостаси градостроения – наука, практика и учебная дисциплина в профильных учебных заведениях?
– Градостроительство подразумевает как научную, так и прикладную составляющие – это две обязательных части нашей профессиональной деятельности. Здания могут быть одинаковыми, а вот одинаковых территорий не бывает – грунты, зонирование, коммуникации и множество других факторов всегда отличаются. А если каждая территория обладает своей спецификой, то абсолютно одинаковые типовые решения нигде не применяются – каждый раз требуется отдельное прикладное решение на основе научного подхода. Методику разрабатывает научная школа, на ее основе предлагаются и реализуются прикладные решения по конкретным кварталам, районам и городам. Вот этому то и обучают в профильных вузах – в тех немногих местах, где присутствуют направления по градостроительству.
Востребованность таких специалистов очень большая. По-хорошему, каждое поселение должно иметь генеральный план развития, а составить его может лишь профильный специалист-градостроитель. Составлять генеральный план по формальному признаку неправильно и непрофессионально – он должен учитывать местную специфику и быть перспективным во многих смыслах. Плохо составленный генеральный план развития способен загнать город в тупик, а понятно это станет только лет через двадцать после его утверждения. Напротив, профессионально составленный план способствует логичному и гармоничному росту любого поселения, а значит, работает на благо его жителей и страны в целом.
От предложенного генерального плана зависит направление государственных бюджетных вложений и инвестиций на десятилетия вперед. От этого зависят судьбы людей, которые строят планы из расчета жизни в этом поселении, получают нужную квалификацию, рассчитывая и соизмеряя свою судьбу в контексте будущности конкретного города – поэтому на градостроителях лежит большая ответственность в том числе и в моральном плане.
Архитектор, который проектирует объем конкретного здания, как правило, работает в интересах коммерческого заказчика, а градостроитель – в интересах государства, и это задача гораздо более масштабная, требующая приложения многих знаний и понимания долгосрочных перспектив. При этом у градостроителей уровень дохода, как правило, меньше, а степень подготовки должна быть на порядок выше. Поэтому градостроительством занимаются по призванию и велению сердца. Главную задачу вижу в обеспечении преемственности поколений, сохранении школы и наставничества, а также в развитии комплексного подхода к совершенствованию наших городов и территорий.
Беседовал Виктор Кудинов