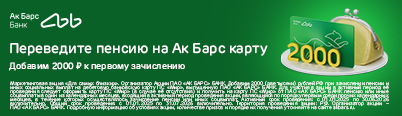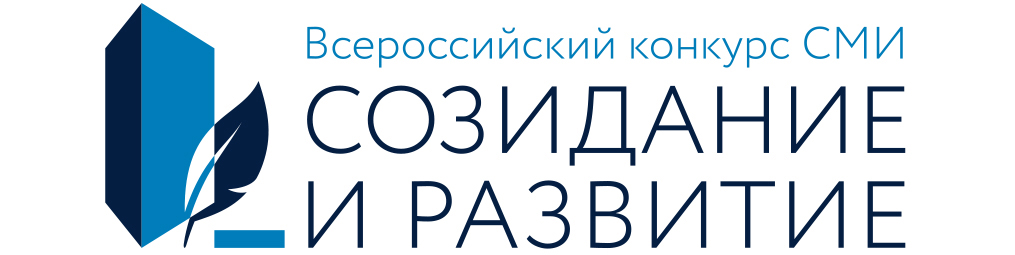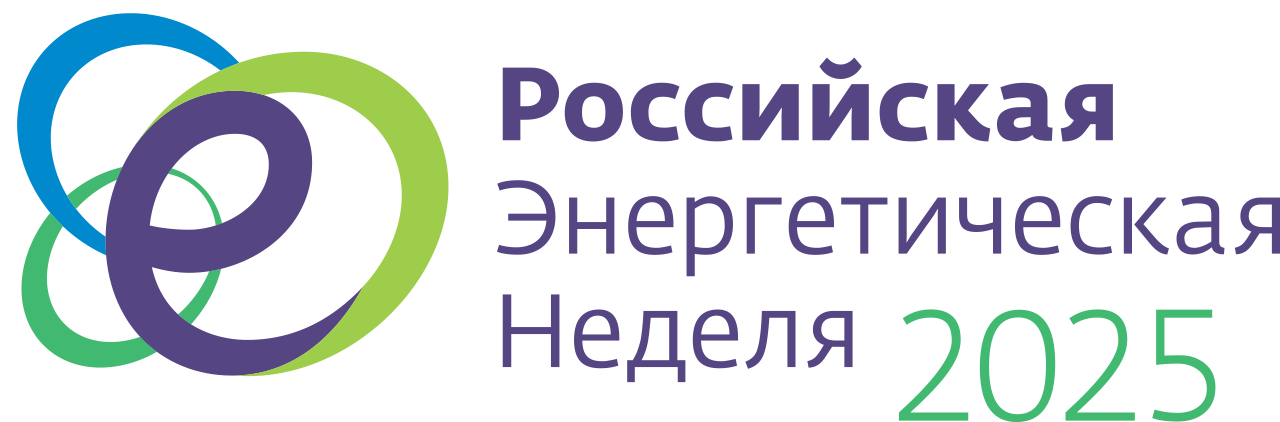Владимир Личутин: «Слово – самая непостижимая тайна, которую нам никогда не открыть»
 Наш собеседник – писатель, один из самых ярких представителей русской деревенской прозы. Уроженец Архангелогородчины, Владимир Личутин всю свою творческую биографию хранит верность родному краю. Большинство его произведений связаны с жизнью деревни на берегу Белого моря на протяжении многих поколений. Фокус автора сосредоточен на исследовании внутренних переживаний человека, широт его души. В этом, юбилейном для писателя году (13 марта Владимиру Личутину исполнится 85 лет) в издательстве «Вече» вышла его новая книга – «Груманланы» (12+). Это и стало поводом для разговора о писательском пути, о поморах и русском человеке в целом, о силе слова, об исторической памяти.
Наш собеседник – писатель, один из самых ярких представителей русской деревенской прозы. Уроженец Архангелогородчины, Владимир Личутин всю свою творческую биографию хранит верность родному краю. Большинство его произведений связаны с жизнью деревни на берегу Белого моря на протяжении многих поколений. Фокус автора сосредоточен на исследовании внутренних переживаний человека, широт его души. В этом, юбилейном для писателя году (13 марта Владимиру Личутину исполнится 85 лет) в издательстве «Вече» вышла его новая книга – «Груманланы» (12+). Это и стало поводом для разговора о писательском пути, о поморах и русском человеке в целом, о силе слова, об исторической памяти.
«Я человек, родившийся на природе»
– Владимир Владимирович, откуда вы родом, что вспоминается вам из детства?
– Есть у меня книга «Сон золотой», в ней я рассказываю о своих детских годах. Родился и вырос я в Мезени Архангельской области, где Канинская тундра начиналась прямо за окном нашей избы. Отец погиб на фронте в 1942 году – жили мы голодно, как и большинство людей вокруг. Конечно, матери было неимоверно тяжело поднимать четверых детей на краю тундры. Ютились мы тогда на девяти квадратах. Это было сиротское военное и послевоенное время, невыносимое на Крайнем Севере – холода и снега, вот что помню я с раннего детства. Но летом тундра расцветала, и я бегал на болото по ягоды с полулитровой стеклянной бутылкой – природа преподносила детям войны свои дары.
Я человек, родившийся на природе, и живая среда естественна для меня с самого раннего детства. Не могу сказать, что в школе все предметы давались мне одинаково хорошо – откровенно говоря, со многими из них было плохо. Но читать я начал очень рано, уже в четыре года интересовался сложными для такого возраста книгами. Меня сразу привлекла серьезная взрослая литература, по ней я и учился читать. Я и сейчас читаю регулярно. За жизнь я собрал не одну, а несколько библиотек, потому что в книгах – знания и опыт многих поколений людей.
Моя любовь к литературе всегда сопровождалась погруженностью в природу, а истоки этого находятся в детстве, откуда мы все родом. Не для всех писателей природа стала естественной средой, но для меня обе эти, казалось бы, неблизкие стихии оказались равноценны. Ведь красоту родной природы можно описать литературным словом, выразить свои чувства, чтобы другие о них узнали, почувствовали сопричастность моему мироощущению. Есть писатели кабинетные, которые всю жизнь держат книгу чистыми руками, а я вырос на природе и знаком со всеми тяготами и радостями деревенской жизни.
– Значит, литературное видение окружающего нас мира формируется вне зависимости от базовых условий и становится возможным благодаря личному интересу конкретного человека?
– Для меня любовь к книге и любовь к природе – это единое целое, через которое познается и раскрывается мир вокруг. Никакого внутреннего конфликта между этими двумя мирами для меня нет; книга – это чудо, и ее можно не только прочесть, но и написать самому. Святые отцы прошлого говорили, что книги – это реки, наполняющие вселенную, а кто их не читает, умирает еще при жизни. Книга дает бесценную возможность соприкоснуться со словом, сказанным в былые эпохи. Особенно для меня ценно слово моего родного народа, которое складывалось веками. Также считаю, что неправильно отстранять детей от «взрослой» литературы. Не бывает литературы детской и взрослой – хорошая книга полезна всем и в любом возрасте. Неслучайно дореволюционные гимназисты с малых лет читали Гомера и Софокла. Важно читать мировую классику, а не беллетристику, которая убивает интерес к серьезной литературе.
Моя малая родина – северный Архангельский край, сокровищница русского слова, бывший рай, который таит в себе много секретов и загадок, а разгадывать их важно и интересно, особенно мне как писателю. Океан и его северные моря издавна были «пашнею» и домом для поморов, их кочи и лодьи заплывали далеко в Арктиду (поморское наименование Арктики, которую в старину считали континентом. – Ред.) к Груманту (Шпицбергену) и Матке (Новой Земле).
«Мир духа неспокоен, непостижим и необъясним»
– Как и когда вы сами попробовали себя в литературе?
– Леса и луга, охота и рыбалка, жизнь родного края и его жителей помогли вырастить во мне любовную и любознательную душу. А писать всерьез я стал довольно поздно, в 32 года, хотя первая проба пера случилась неожиданно для меня в 18 лет. После окончания лесотехнического техникума я служил в армии, работал фрезеровщиком на Адмиралтейском заводе в Ленинграде – тогда вдруг вспыхнула тяга к учебе, и я поступил на факультет журналистики Ленинградского университета. Со второго курса перешел на заочное и уехал в Архангельск, меня приняли на работу в областную радиостанцию, а уже в 70-е годы оказался в газете «Правда Севера». Тогда я много ездил по деревням и подсознательно, по-журналистски, стал узнавать и понимать судьбу русского народа, глубинные качества русского человека, которые отделяют нас от западного мира, идущего по столетиям своей дорогою.
Так что работа в газете и стала основой грядущей литературной «обыденке», тому писательскому труду, которому я и посвятил всю свою жизнь без остатка. И это, конечно, судьба, Божий урок, который человек неожиданно выбирает и принимает как данность и службу, на которую вступил, никем не назначаемый и не избираемый. Уже в 1978 году я закончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей, опубликовал свои ранние газетные зарисовки о деревенских умельцах, написал первую ученическую повесть «Белая горница». Судьба каждого человека – это необъяснимая тайна, и мое появление в писательском мире – тоже чудо. Как чудо и появление любого человека на белый свет, чтобы стать соработником Господу. Но почему выбран он для этого труда, а никто другой, – тоже тайна, в которую нет смысла углубляться, ибо ее смыслы не раскрыть ни одному мудрецу мира.
Меня волнует душевный мир простеца – русского крестьянина, открывать его духовный мир, раскрывать священный ларец всегда чрезвычайно интересно. Газета толкала меня в унывную пропасть практического дела (уборка сена, посевные, надои молока, лесозаготовки и т.д.) – то есть в мир плоти и хлеба насущного; конечно, не менее значительного, чем мир души. Но космос духа бесконечен в пространстве, а удел плоти знаком с детских лет и не вызывал во мне того жгучего интереса, какой вызывают переливы и метания души. Мир духа неспокоен, непостижим и необъясним, сколько бы ты ни работал в литературе.
– Был ли какой-то поворотный момент, когда вы точно почувствовали, что писать не только нравится, но и получается?
– Шли годы труда не только внешнего, но и внутреннего, когда пережитое невольно приходит в твои книги и становится главным героем, как бы ты ни избегал своего участия в судьбе персонажей. Безусловно, в каждой частице внутреннего мира присутствуешь ты сам, невидимый и грешный, радостный и горестный. Когда я совсем недавно решился переиздать свою первую повесть «Белая горница» (а минуло с момента первого издания 50 лет), то пришлось править каждую строку – оказывается, столь несовершенна была она, прежняя работа. Но ведь чем-то нравилась читателям и, наверное, даже больше, чем нынешние мои труды. Но уже во второй повести – «Вдова Нюра», написанной через год, я сейчас исправил всего лишь одно слово – видимо, случился какой-то удивительный перелом в моей душе, взросление и прозрение, когда мир слова сгустился и заклубился вихрями, поглощая меня всего без остатка, о чем я и не догадывался.
Нынче мне думается, что случилось это от взросления и прозрения, когда глаза мои, прежде слепые, вдруг приоткрылись не только на жизнь натуральную, плотскую, но и на русскую литературу того времени. Уже стали издаваться произведения Василия Белова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина… Тогда в моем сознании произошел, наверное, настоящий переворот – я понял, что есть проза и беллетристика. Повесть Белова «Привычное дело» – это высокая проза о делах самых житейских, о тех людях, кто посвящает жизнь хлебу насущному; о жизни серенькой, затрапезной, в которой, кажется, нет места героям. Но воссозданная истинным русским языком, она вдруг расцвечивается яркими красками и поражает воображение читателя, далекого от этого мира.
Еще будучи журналистом, я много ездил «по северам» и видел, как скромно, а если честно сказать, то совсем бедно, по-нищенски живет простой русский человек, оставшийся после войны в жутком одиночестве и сиротстве – это вызывало чувство внутреннего сопротивления. От неприятия громких лозунгов, которые противоречили сельской суровой обыденке, захотелось изобразить трагедию моих земляков, описать правду русским ясным слогом, уже позабытым по городам – но в деревне-то сохранялась прежняя жизнь.
Постепенно я познакомился со всеми писателями-деревенщиками, но не скажу, что мы стали друзьями. Характер у меня был, наверное, не очень сладкий – многим я перечил, ибо порою у меня был свой взгляд на общество, а именитый собеседник частенько не принимал возражений, полагая их за обычный вздор литературного попутчика. Когда слава приходит к человеку, он сначала стесняется ее, бежит от громких слов в свою честь, но постепенно привыкает, надевает ее как новую пиджачную пару и в этой одежде уже нравится самому себе. Ведь литераторы в славе ужасно не любят, когда им перечат своим мнением, особенно, когда добиваются от них истины, которую никто в мире не знает, кроме Бога. Но у нас есть общее – мы поклоняемся деревне как родительнице и покровительнице русской земли.
– Вы предпочитаете крупную литературную форму?
– Говорят, что склонен к пространному описанию, но все, о чем я пишу, наполнено национальным природным смыслом. Русский язык глубок и многообразен, он отражает содержание, свойства и характер самого народа, его образ мыслей. Мне близки красочность и метафоричность русской речи – в литературной форме романа я вижу простор для самовыражения и передачи авторского замысла.
Мы воспитывались на Пушкине, Достоевском и Тургеневе – все они были мастерами русского слова. И в отличие от западноевропейской литературы наши классики работали смысловыми метафорами, часто избегая строгой сюжетности в своих произведениях. Нам важно показать человека в обстоятельствах, а сама сюжетная линия не является самоцелью. Главное в том, чтобы раскрыть характеры героев в их сути, а не только во внешней форме. В западной литературе духовности и совестливости практически нет или почти нет – в лучшем случаи они заменены моралью и морализаторством. От этого им непонятны многие русские сочинения – иной раз сам английский язык с его юридической логичностью является препятствием для перевода русской классики.
Герой русского романа – это и сама природа в любые времена года. Ибо человек помещен внутрь пейзажа, как в золотую скудельницу, и творит жизнь купно с ним как творение Божье, ведь все едино в русском содержании, все неразрывно, ибо сотворено Богом, Его отцовским чувством. Суть романа раскрывается описанием быта, природы, привычек, обрядов, религиозностью всего окружающего мира, тонкостью душевных переживаний, а потому запутанность детективного сюжета в русской литературе заменяет философия, заключенная в символику и многосложную эстетику и поэтику самого слова. Потому в русской прозе само слово выступает как самостоятельный герой. И вообще слово как живой организм, наполненный непонятной энергией, совершенно не изучено. Мы летаем в космос, создаем искусственный интеллект, но оставляем в стороне слово, не понимая его исторических и общественных задач. Слово есть самая непостижимая тайна, которую нам никогда не открыть, вот откуда пошла эта мистическая метафора: «Сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
«Чувство Родины у поморов особое»
– В чем заключается особенность поморского быта и характера?
– Еще во время учебы в техникуме послали нас убирать сено в одну из пинежских деревень. Остановились на постое у одного старика, вот он-то и остался в моей памяти как образ настоящего исконного помора – силы огромной, бесстрашный и опытный охотник, который завалил три десятка медведей. В доме его все было из дерева, включая посуду, а металлических и каменных предметов не было вовсе. Это был древний, чудом сохранившийся русский быт Средневековья – из современных вещей в избе висело в простенке лишь маленькое зеркальце в пластмассовой оправе. Рассказы крестьянина и его интересная судьба навсегда врезались в мою память. Когда я вернулся домой, то написал о нем и отправил этот составленный в школьной тетради текст в журнал «Юность». Несмотря на пришедший из редакции отказ, это, пожалуй, и был мой первый литературный опыт. Впоследствии главный редактор «Юности» Борис Полевой приглашал присылать что-то из моих вещей для журнала, но так случилось, что именно в нем я и не публиковался.
Чувство Родины у поморов особое, наша архангельская природа и сложная жизнь веками формировали и оттачивали те свойства в человеке, которые позволяли выжить на Севере. Но в то же время наш край – это былинная, песенная земля чутких, вдумчивых и созерцательных людей, которые всегда помогут и подскажут, если потребуется. Особый говор с многими диалектными словами и метафорами был мне знаком с самого детства – я и сейчас употребляю наши поморские выражения, которые будут вам непонятны без особого разъяснения. Хотя теперь многое уже выпало из памяти. А вообще характеры и образы поморов и их потомков я стараюсь раскрыть в своих литературных работах – почитайте и узнаете.
– В этом году увидела свет ваша новая книга «Груманланы». Расскажите о ее названии и главной идее.
– Вот в ней-то я и написал о сложном, наполненном смыслами и событиями прошлом нашей северной земли, в ней постарался отразить сложную русскую натуру, которая столетиями сохранялась в душах простых и отважных людей, чьи небольшие морские суда-кочи и лодьи ходили до архипелага Грумант (Шпицберген). Груманланы – это поморы-промышленники, промысловики и отважные мореходы, которые «сидели» по берегу Ледовитого океана и Арктиды – они выковали неповторимую и своеобразную русскую натуру.
Книга эта вызревала во мне многие годы вместе с духовным чувством национальной принадлежности к русскому человеку, к этому удивительному племени. Ибо без поклона Поморью, без удивления перед его великим историческим прошлым приступать к этой удивительной, редкой по документальному материалу книге не следовало бы. Как созревало во мне национальное чувство, с тем же успехом последовательно скапливалось по крупицам и будущее содержание работы. Ведь не сразу изба строилась, от окладного до кровли – половина работы, а уж потом идет внутренняя отделка.
Долго и с интересом я собирал материал для этой работы, но в изданном томе отражено не все, что хотелось бы. Поэтому начал работать над ее продолжением – мне еще есть чем поделиться с читателем. Эта книга вроде энциклопедии о русских поморах, где можно узнать многое об этом живущим на Севере особенном русском сословии. Книга о том, кто они – мезенские поморы, и откуда явились в Арктиде, где когда-то был рай.
– Расскажите о своем отношении к писателю и фольклористу Борису Шергину.
– Борис Викторович был истинно верующим и влюбленным в Ледяной океан человеком с драматической судьбою. Из всех литераторов своего поколения Шергин был самым гонимым, но и самым совестливым и искренним. Это замечательный русский писатель – учитель и духовник, являвшийся нравственным образцом для многих. Рядом с ним даже поставить некого. С годами его наследие становится только ценнее – он сохранял и передавал истинную народную мудрость, не размениваясь на суету текущего дня. Мы виделись лишь однажды, но эта встреча произвела на меня сильное впечатление – это воистину духовно возвышенный человек, который с большим достоинством преодолевал житейские невзгоды. Увечный, слепой, гонимый властями, он не озлобился и продолжал любить русский народ и свою Родину. Он был «воистину божий хлебец», как Христов дар в научение и духовную помощь.
«Удивительное явление в русской истории и жизни»
– Какова роль поморов в освоении сибирских земель?
– Поморская или груманланская культура – удивительное явление в русской истории и жизни. Простые поморы проявляли чудеса смекалки, выносливости и любопытства – они ходили тысячи верст вдоль всего Северного морского пути. Только сейчас там ходят атомные ледоколы, а тогда поморы плавали на деревянных парусных и весельных суденках. Поморы принесли державе треть богатейших ее земель, за счет чего мы и живем нынче и будем расти и крепнуть в будущем. Этим и занимались наши предки, осваивая неспокойный, студеный и безбрежный край. Поэтому я и стремлюсь рассказать об их исторических заслугах, которые нынче особенно ценны для государства.
Сотворив жертвенный подвиг в больших усилиях и тягостях, часто погибая в океане, поморы обжили Сибирь, не требуя себе ни славы, ни почестей, ни капиталу. Это был единственный, уникальный случай в мире, когда простые русские мужики, не требуя особой помощи и мзды, подклонили под Москву огромные пространства Восточной Сибири, по простору и землям равные Западной Европе. Многие из покорителей были родом из моей родной Мезени, люди эти – часть большого поморского сословия груманланов. Все побережье Белого моря состоит из двенадцати берегов – такое понятие идет из глубокой древности. Мезень стоит на Зимнем Берегу, а люди, там живущие, оказались наиболее однородны по результатам проведенного в наши дни генетического исследования. Это говорит о том, что современные мезенцы – прямые потомки поморов прошлых веков. Феноменом Зимнего Берега занимаются ученые, а я как литератор пытаюсь вызволить малую родину из темени исторического беспамятства и воздать ей должное. В последние три десятилетия население Помезенья сократилась вдвое, что чревато скорой утратой редкого по судьбе и характеру русского сословия. Потом уже ни за какие барыши не возродить его и за сотни лет.
– В прошедшем году в Мезени был открыт Дом-музей вашего имени. В чем заключается его значение для города и региона?
– Хотелось бы, чтобы музей, открытый в родовом доме, где прошли мои детство и отрочество, со временем стал притягательным хранителем легендарной истории, тем самым сокровенным местом Мезени, куда хотелось бы прийти и впитать в себя хоть частицу, малую толику той загадочной истории от давно минувшего времени, в которой бытовали наши предки. Конечно, того вина уже не испить, но можно испытать чувство восторга, когда что-то вдруг вздрогнет в груди и вспыхнет неведомое прежде чувство любования, радости и торжества.
Музей может стать местом для постоянного общения и творческого труда. Замечательно, если туда будут приходить дети, а учителя станут им сообщать что-то необычное о нашей родине, и она вдруг откроется каким-то новым необычным образом. Музей дышит в полную грудь, если вокруг него роятся деятельные вдумчивые люди и все они хотят преображения родной стороны.
И слава Богу, что в музее нашлось место для живописных работ моего родного брата Василия, которому в октябре прошедшего года исполнилось бы 75 лет. В его картинах, как и в моих литературных трудах, отражены образы родного края, скромная, но удивительно глубокая душа Русского Севера.
Беседовал Виктор Кудинов