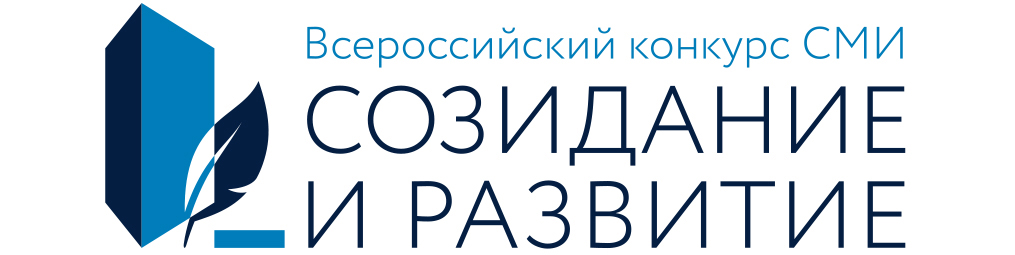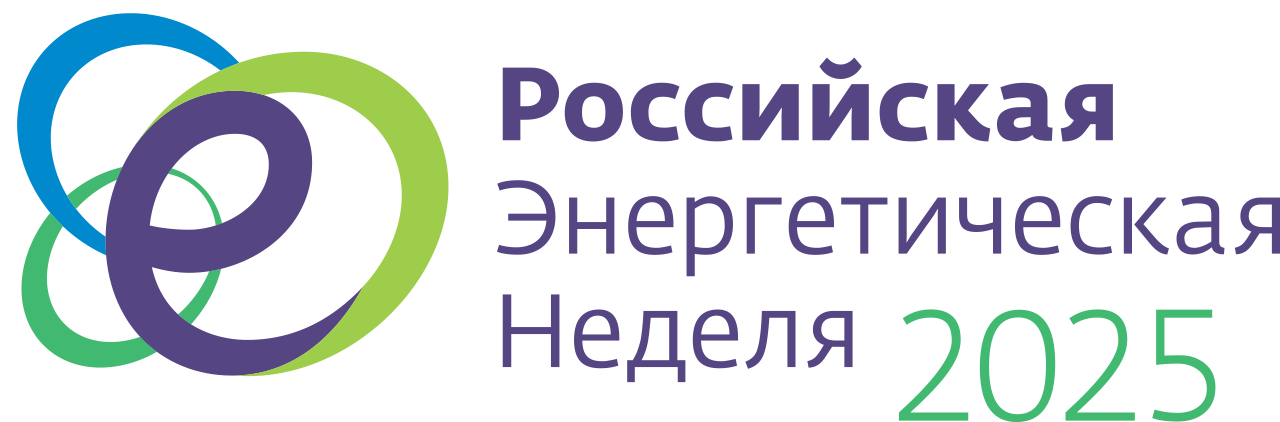Архитектурные стили: просто о сложном

Прогуливаясь с друзьями по городу, всегда приятно блеснуть эрудицией, по ходу движения определяя архитектурные стили окружающих зданий и сооружений. Но для этого необходимо не только обладать хорошими знаниями и памятью, но и любить историю архитектуры.
Любовь к архитектуре в свое время привела Дмитрия Фесенко к званию академика Международной Академии архитектуры (отделения в Москве), к членству в правлении Союза московских архитекторов, членству в Совете по градостроительству САР, а также к таким уважаемым наградам, как премия Союза московских архитекторов «Золотое сечение» и фестиваля «Зодчество».
Долгие годы Дмитрий Фесенко возглавляет редакцию журнала «Архитектурный вестник», он автор более 1500 статей по проблемам современной архитектуры, урбанистики, развития территорий, расселения, охраны архитектурного наследия и реставрации. Много лет он делится своими знаниями с молодым поколением, читая курс лекций по теории и истории архитектуры в МГТУ-МАСИ. А сегодня его вводная «лекция» – для вас, уважаемые читатели.
Стили большие и маленькие
– Дмитрий Евгеньевич, давайте начнем нашу беседу с такого наивного, но важного вопроса: что такое стиль в архитектуре и по каким признакам принято отличать один от другого?
– Сразу следует прояснить, что само понятие «стиль» как таковое возникло в первой половине XVIII века и связано с именем немецкого ученого-искусствоведа Иоганна Винкельмана (считается основоположником искусствознания – научного изучения классического искусства, архитектуры и археологии. – Авт.). Он в основном занимался тем, что определял (в искусствоведении говорят «атрибутировал»), к какой эпохе относятся те или иные творения прошлого. Винкельман первый ввел в научный обиход понятие «стиль» и сам им активно пользовался.
Для него абсолютным эталоном была античность, и соответственно, он все произведения искусства соизмерял с этой эпохой, оценивая, насколько они приближаются к античным идеалам или отходят от них. Готика, например, по его мнению, далеко отстояла, поэтому он относился к ней резко отрицательно. Сам он родился в 1717 году и, следовательно, жил в период расцвета барокко, который он тоже порицал за несоответствие античному идеалу. Нельзя сказать, что Винкельман дал точное определение понятия стиля. По его мнению, был стиль до Рафаэля (великий итальянский живописец и архитектор конца XV, начала XVI века, по праву считается одним из крупнейших мастеров Высокого Возрождения. – Авт.), собственно сам Рафаэль и то, что создавалось уже после него и под его влиянием. Также он говорил, что есть стиль до Фидия (творивший в V веке до н.э. древнегреческий скульптор и архитектор, считается одним из величайших художников периода Высокой классики. – Авт.), стиль самого Фидия и после Фидия.
Нельзя сказать, что Винкельман дал точное определение понятия стиля. По его мнению, был стиль до Рафаэля (великий итальянский живописец и архитектор конца XV, начала XVI века, по праву считается одним из крупнейших мастеров Высокого Возрождения. – Авт.), собственно сам Рафаэль и то, что создавалось уже после него и под его влиянием. Также он говорил, что есть стиль до Фидия (творивший в V веке до н.э. древнегреческий скульптор и архитектор, считается одним из величайших художников периода Высокой классики. – Авт.), стиль самого Фидия и после Фидия.
– Очень простой подход…
– А других до него и не было. На самом деле он был одним из первых, кто вообще стал атрибутировать исторические признаки различных античных произведений искусства. Этим, собственно, он и зарабатывал на жизнь, являясь, по сути, одним из первых специалистов такого рода. Архитектурой Винкельман занимался меньше всего. В первую очередь он атрибутировал скульптуры, живопись и другие произведения прошлого. Изобретенное им понятие «стиль» стало активно использоваться и успешно применялось до конца ХХ века. В архитектурной науке последние десятилетия понятие стиля постепенно отходит на второй план.
В XVIII–XIX веках сформировалось представление об основных архитектурных стилях: античность, готика, ренессанс, барокко, классицизм… Но к рубежу XIX–XX веков происходит диверсификация, расширение смыслового наполнения самого понятия стиля. Появилось понятие «национальный стиль», имеющий географическую привязку. Или хронологическую привязку, как, например, «викторианский стиль» (совокупность стилевых течений в архитектуре и дизайне, связанных с периодом правления английской королевы Виктории (1837–1901). – Авт). В обиход вошло понятие «стиль мастера».
– Это был универсальный процесс, или в каждой стране был свой сценарий?
– В архитектуре различных стран были свои особенности. Например, во Франции барокко как такового не было. В отличие от Италии, Германии или Нидерландов. Доминировал классицизм, переживший различные стадии.
– А в России? – Если говорить о барокко в России, то, например, у нас в конце XVII века известен феномен «нарышкинского барокко», «строгановского барокко» и др. Это стили, связанные с видными государственными деятелями своего времени. Потом пришла эпоха Петра I. Для его правления характерен достаточно сдержанный по содержанию и художественному языку вариант барокко. А затем настало время «елизаветинского барокко» – это середина XVIII века. Архитектурный стиль стал более пышным, велеречивым, выразительным, с превалирующими пространственными эффектами, особенно четко проявившимися в творчестве Франческо Бартоломео Растрелли (работавший в Российской империи итальянский архитектор, считающийся классиком русского барокко. – Авт.). В конце XVIII века в России уже сформировался свой стиль, который иногда называют имперским.
– Если говорить о барокко в России, то, например, у нас в конце XVII века известен феномен «нарышкинского барокко», «строгановского барокко» и др. Это стили, связанные с видными государственными деятелями своего времени. Потом пришла эпоха Петра I. Для его правления характерен достаточно сдержанный по содержанию и художественному языку вариант барокко. А затем настало время «елизаветинского барокко» – это середина XVIII века. Архитектурный стиль стал более пышным, велеречивым, выразительным, с превалирующими пространственными эффектами, особенно четко проявившимися в творчестве Франческо Бартоломео Растрелли (работавший в Российской империи итальянский архитектор, считающийся классиком русского барокко. – Авт.). В конце XVIII века в России уже сформировался свой стиль, который иногда называют имперским.
В Европе сформировалось такое понятие, как «большой стиль». Насколько это определение корректно – большой вопрос. Да, барокко и ренессанс можно назвать большими стилями, а мостик, который их связывает – маньеризм (художественное течение в западноевропейском искусстве, характерное для периода с 1520-го по 1590-е гг. – Авт.), – можно считать большим стилем или нет? А эклектику (направление в архитектуре и искусстве, основанное на соединении элементов разных художественных стилей и приемов в одном произведении. – Авт.)? Если говорить об отечественной архитектурной науке, то даже модернизм не все искусствоведы относят к понятию «большой стиль».

Малевич вдохновлял архитекторов
– Европейские страны всегда считались родоначальницами новых течений и веяний в архитектуре?
– Так исторически сложилось, по крайней мере начиная с конца XVII – начала XVIII века. До начала ХХ века в мире было несколько стран, которые могли претендовать на звание лидеров в области архитектуры. Это Италия, Франция, Германия, Великобритания. В 1920-е годы одним из лидеров, включавших Францию, Германию и Нидерланды, стал Советский Союз – родина конструктивизма, развивавшегося параллельно с западным функционализмом.
Надо заметить, что до Первой мировой войны в Европе стали появляться отдельные архитектурные объекты, будто бы перенесенные из будущего. Например, германская обувная фабрика «Фагус», спроектированная в 1911 году Вальтером Гропиусом и Адольфом Мейером и построенная в 1913-м. Прекрасный образец функционалистской архитектуры, только появившийся намного раньше возникновения самого этого понятия. Или Дом Штайнера в Вене (Австрия), который считается хрестоматийным творением архитектора Адольфа Лооса. Он тоже был спроектирован в 1911 году. Здание очищено от какого-либо декора и по всем признакам как с главного, так и с дворового фасада носит модернистский характер, представляя собой, по сути, «плацдарм будущего».
– А в России такое примеры были?
– Таких ярких примеров «захватов будущего», если можно так выразиться, в дореволюционной архитектуре не было. Зато были три мощных источника художественного формообразования, из которых черпали вдохновение будущие советские архитекторы-конструктивисты. Первый из этих источников – это супрематические листы 1913–1915 годов Казимира Малевича (русский и советский художник, педагог и философ, основоположник таких художественных стилей, как кубизм, супрематизм, авангардизм. – Авт.). При наличии воображения можно подумать, что на этих листах изображены эскизы – фасады или планы – какого-то архитектурного объекта. Второй источник – это Владимир Евграфович Татлин (русский и советский живописец, график, дизайнер и художник. Считается родоначальником советского архитектурного авангарда и конструктивизма. – Авт.), его контррельефы – объемные абстрактные композиции, созданные в 1914–1915 годах. А третий источник – это творчество «чистых» художников, в частности, супружеской пары российских и советских художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Их стиль лучизм, отличающийся динамичными, как бы разлетающимися композициями, предваряет многие ключевые принципы конструктивизма, которые были воплощены в советской архитектуре 20-х годов ХХ века.
 Рождение, расцвет и закат конструктивизма
Рождение, расцвет и закат конструктивизма
– А зафиксирован в истории момент, с которого фактически началась эпоха конструктивизма?
– Принято считать, что зеленую улицу ему открыл архитектурный конкурс на здание Дворца труда, который проводился в 1922–1923 годах. Победителем стал эффектный, но архаизирующий проект архитектора Ноя Троцкого, а вот третье место занял абсолютно зрелый, сложившийся до отдельных деталей конструктивистский проект братьев Весниных (братья-архитекторы Леонид, Виктор и Александр Веснины. Считаются лидерами советской конструктивистской архитектуры СССР в 1920-х и начале 1930-х годов. – Авт.). В их проекте нашли отражение принципы и признаки нового стиля, начиная от врезки прямолинейных и криволинейных объемов и заканчивая проявлением на фасаде каркасной основы. И конечно, металлическими растяжками, которые считаются опознавательным знаком конструктивизма. Вот с этого момента новый стиль в архитектуре обрел себя.
– Говорят, что у нового стиля были сторонники на самом верху советского руководства, благодаря которым он везде и продвигался.
– На самом деле конструктивизм воплотил дух своего сурового и аскетичного времени. Нельзя не обратить внимание, что в этот же самый период в Москве на Неглинной улице строится здание Государственного банка СССР (проект архитектора Ивана Жолтовского, начало строительства – 1927-й, завершение – 1929 год. – Авт.). Это неоклассическое здание, которое строилось в самый разгар конструктивизма. Дело в том, что такие великие архитекторы, как Иван Жолтовский, Алексей Щусев (А.В. Щусев – академик архитектуры с 1910 года, является единственным архитектором, достигшим успехов и признания сразу в трех эпохах русской и советской архитектуры – в неорусском стиле до Октябрьской революции, в конструктивизме и в сталинской архитектуре 1930–1940-х годов. – Авт.) и целый ряд других мастеров были воспитаны в традициях старой императорской архитектурной школы. На нарождающийся конструктивизм они смотрели, что называется, «в монокль».
Но, тем не менее, и Жолтовский, и Щусев внесли заметный вклад в формирование конструктивизма. Каждый из них создал не одно творение, которое по праву входит в сокровищницу архитектуры ХХ века. Например, Алексей Викторович Щусев в 1927 году спроектировал здание Наркомата земледелия в Москве (Орликов переулок, д. 1/11, м. «Красные Ворота». – Авт.). Сегодня это здание занимает Министерство сельского хозяйства РФ. А Иван Владиславович Жолтовский в 1926 году разработал проект Центральной тепловой электростанции МОГЭС (сегодня это здание ГЭС-1, Раушская набережная, д. 12. – Авт.). Это конструктивистское по духу и букве сооружение: со стеклянными эркерами и телескопическими трубами. Там, конечно, ощущается классицистическая основа, но в целом по своему архитектурному языку это конструктивистское произведение. Просто Жолтовский и Щусев были столь великими профессионалами и выдающимися архитекторами, что они могли без нажима работать в иной системе архитектурного мышления. Особенно это справедливо по отношению к Щусеву, который был уникальным универсалом, – тому же лауреату Притцкеровской премии Ф. Джонсону до него так же далеко, как до звезд.
– Бытует легенда, что творение того же Ивана Жолтовского – «Дом на Моховой», – спроектированное им в 1932 году, вбило гвоздь в гроб конструктивизма и завершило эту эпоху. Это действительно так?
– Есть такая версия, что Иосиф Сталин лично поставил крест на конструктивизме. В действительности аскетизм и пуризм конструктивизма к концу 20-х годов все больше подвергались критике со стороны как профессионалов, так и широкой общественности. И архитектурный конкурс на проект Дворца Советов, проходивший в 1932–1933 годах в четыре этапа, эту динамику профессиональных и массовых предпочтений точно выявил. Происходившая от одного конкурсного этапа к другому трансформация проектного решения Бориса Михайловича Иофана, ставшего впоследствии одним из ведущих представителей советской архитектуры сталинского периода, четко показывает, каким образом формировалось это новое архитектурное видение. В итоге победил вариант, представляющий собой 400-метровую зиккуратообразную башню, состоящую из поставленных друг на друга цилиндрических ярусов, увенчанную 100-метровой статуей Ленина. Дворец Советов, как вы знаете, должен был быть построен на месте снесенного в 1931 году Храма Христа Спасителя, который сегодня воссоздан.

Ар-деко шагает по планете
– Какой стиль пришел на смену конструктивизму? Сталинский ампир?
– Сталинским ампиром обычно называют послевоенную архитектуру, когда произошла своего рода кристаллизация сталинской неоклассики. Хотя в тот период активно использовались и другие формы и мотивы, например, древнерусского стиля. Достаточно вспомнить гостиницу «Ленинградская» (проект архитектора Леонида Полякова. Начало строительства – 1953-й, завершение – 1957 год. – Авт.). Честно говоря, термин «сталинский ампир» грешит упрощенчеством. Слишком он узкий. Сама архитектура этого периода гораздо сложнее и многограннее.
– А что тогда можно считать прямым продолжением конструктивизма?
– Им стал стиль ар-деко, который предстает заметным явлением – в том числе на мировом уровне. Например, замечательные советские павильоны для международных выставок в Париже и в Нью-Йорке в 1937-м и 1939 годах были выполнены в стиле ар-деко. В Москве в этот же момент создаются такие яркие архитектурные произведения, как станция метро «Кропоткинская» (архитекторы А.Н. Душкин и Я.Г. Лихтенберг). И совершенно замечательная станция «Маяковская» (архитекторы те же). Макет этой станции, кстати, экспонировался на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, где занял первое место. Можно сказать, что начиная со второй половины 1920-х годов стиль ар-деко начинает уверенно покорять мир. Отправной точкой оказывается Всемирная выставка в Париже 1925 года. Многие павильоны на выставке в Париже были выполнены в стиле ар-деко. После чего он перешагнул через Атлантический океан и стал осваивать Америку. Многие знаменитые небоскребы Нью-Йорка – от Эмпайр Стейт до Крайслер билдинг – выполнены в стиле ар-деко. Этот стиль продолжает оказывать влияние и на современную архитектуру.
Продолжение следует.
Беседовал Андрей Пучков